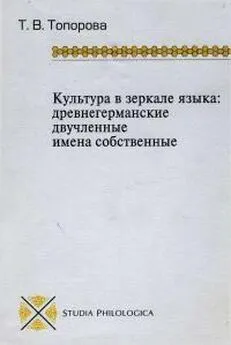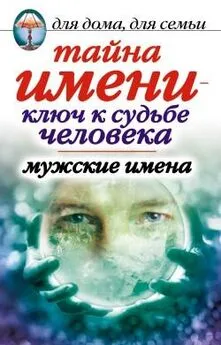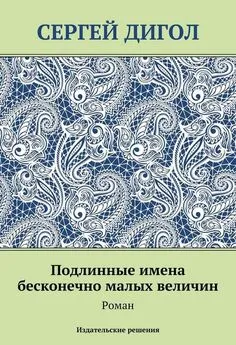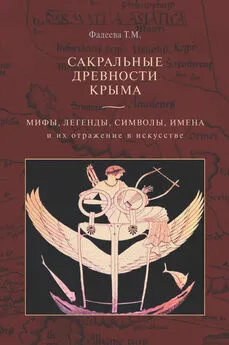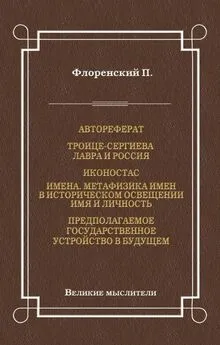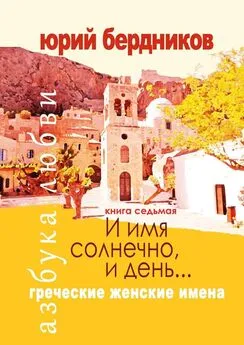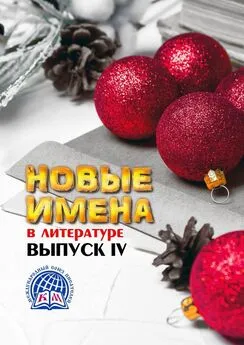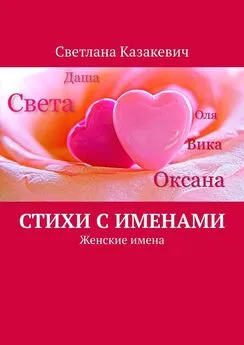Татьяна Топорова - Древнегерманские двучленные имена
- Название:Древнегерманские двучленные имена
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Языки русской культуры
- Год:1996
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Топорова - Древнегерманские двучленные имена краткое содержание
Древнегерманские двучленные имена - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
* *
*
Несмотря на многочисленные исследования, посвященные анализу индоевропейских двучленных имен собственных, в которых объектом анализа являются компоненты nom.pr., отсутствует статистически корректное, дифференцированное и исчерпывающее описание элементов, выступающих в качестве первого или второго членов имени или занимающих и ту и другую позиции. Проблема валентности отдельных элементов в составе nom.pr., т.е. их способности присоединять другие элементы слева и справа, в принципе остается вне поля зрения специалистов, и тем самым игнорируются весьма важные, а иногда и единственные источники, позволяющие реконструировать те или иные древнегерманские фразеологические сочетания или двучленные поэтические формулы. Кроме того, следует учитывать, что информация, полученная в результате изучения комбинаторных возможностей компонентов, особенностей их сочетаемости, существенно дополняет морфологические и семантические сведения о двучленных именах собственных и позволяет под новым углом зрения рассмотреть ономастические композиты. Наблюдения над функционированием элементов nom.pr. свидетельствуют о необходимости последовательного разграничения потенций языка в области сложения nom.pr. и реально зафиксированных данных. Естественно, приходится считаться и с тем, что древнегерманский ономастический материал мог и не отражать некоторых реально существовавших типов, и что отдельные имена не сохранились в ходе эволюции. Разрыв между потенциальным и реальным аспектом служит типологически важным критерием языка, имеющим, в частности, непосредственное отношение к принципу языковой экономии.
При анализе дистрибуции компонентов древнегерманских двучленных имен собственных в первой и второй позиции, следует иметь в виду некоторые детали. Во-первых, значение компонентов дается обобщенно, поскольку их назначение заключается в отсылке к определенному семантическому кругу. В наиболее сложных случаях интерпретации компонентов потребуется обращение к соответствующим словарным статьям, содержащим более подробные сведения о них. Во-вторых, отождествляются формы с различными аффиксами, модифицирующими одну и ту же основу (например, *agina-, *agana-, *agila- и др.) и различными ступенями аблаута (например, *bergovi *burgd). Кроме того, неизбежно абстрагирование от некоторых морфологически релевантных моментов: в частности, нейтрализуется оппозиция между детерминативными и поссесивными композитами (ср. *grlm- в первой позиции со значением ‘маска’ и во второй - со значением ‘(имеющий) маску’). Также приходится отвлекаться от влияния поэтической организации, накладывающей определенный отпечаток на сочетаемость элементов двучленных имен собственных.
На комбинацию компонентов древнегерманских дву членных nom.pr. накладываются определенные запреты Одни носят абсолютный характер, когда нарушаются язы ковые принципы сочетания морфологических классов слов другие не столь категоричны. Остановимся подробнее на не которых принципах сочетания ономастических элементов
1) Один и тот же элемент не может занимать как первую так и вторую позицию в одном и том же имени, т.е. исклю чены тавтологические nom.pr.; 2) Жестким регулятором комбинации элементов являются морфологические правила, в соответствии с которыми а) служебное слово или наречие могут занимать только первое место в имени; Ь) противопоказано объединение двух несклоняемых частей речи; с) некоторые разряды слов целиком исключаются из сложения nom.pr., например, личные формы глагола, местоимения, числительные в качестве второго члена; d) В мужских именах первоначально фигурировали только masculine, а в женских feminina; neutra вообще не могли быть представлены во второй позиции (разумеется, за исключением bahuvrlhi; 3) Доминирующий в общегерманском синтаксический тип SOV предполагал препозицию имени по отношению к глаголу; 4) Ограничения действуют и в сфере поэтики, например, *al занимает только первое место. Однако, независимо от приводимых выше ограничений, при комбинировании элементов nom.pr. оказывается нереализованным огромное количество возможных сочетаний. Показательно, что ономастическое пространство языка не обладает способностью сплошного заполнения, в нем выделяются ключевые зоны, наиболее расположенные к производству имен. Гетерогенность ономастического пространства обуславливает особую рельефность реально засвидетельствованных имен и представляет возможность для функционирования резерва при продуцировании имен.
В 731 двучленном имени собственном, зафиксированном в нескольких (по крайней мере двух) древнегерманских ареалах, представлено 227 компонентов. Теоретически возможна ситуация, когда каждое имя состояло бы из двух различных компонентов; в таком случае количество элементов достигало бы 1462. Древнегерманские ономастические данные свидетельствуют о том, что в действительности реализовано лишь около 15% комбинаторных возможностей имен. Превышение nom.pr. их членов почти в 3 раза убедительно доказывает наличие сильно выраженной тенденции к языковой экономии и отсылает к важным закономерностям конституирования nom.pr. Этот вывод подтверждают и другие статистические факты, позволяющие определить
движущие силы сочетаемости компонентов nom.pr. и понять природу их действия. На основании расчетов обнаруживается, что в двучленных nom.pr. представлено 160 первых компонентов и 67 - вторых, 47 компонентов (20/%) выступают как в первой, так и во второй позиции, т.е. первых компонентов почти в 2,5 раза больше, чем вторых. Столь значительное преобладание первых элементов над вторыми a priori приводит к заключению о выполнении ими функции модификаторов вторых членов, образующих ядро ономастических композитов. Эта гипотеза подтверждается и другими наблюдениями, в частности, гораздо большей максимальной валентностью вторых элементов (ср. 72, 50, 40, 34), чем первых (29, 28, 23, 19). Таким образом, меньшее количество вторых элементов объясняется тем, что они, входя в состав детерминативных композитов, являются носителями семантики nom.pr., ключевыми компонентами словосочетаний, поэтому их набор ограничен определенным числом понятий; первые же члены, используемые для трансформации их значения и выступающие в качестве зависимых компонентов словосочетаний, проявляют большее разнообразие в выборе тем. Примечательно, что наиболее продуктивные вторые элементы сильно отличаются по составу от первых. В ономастических композитах (имеются в виду только детерминативы) второе место, как правило, занимают лексемы, обозначающие принадлежность к роду или классу (ср. *wulbaz ‘волк’ *bernuz ‘медведь’, *gastiz ‘гость’, *таппг ‘человек ’,*pegwaz ‘слуга’, *geislaz ‘заложник’, *weniz ‘друг’ и др. ), или отглагольные образования, близкие им семантически (ср. *waldaz ‘властвующий’ —> ‘правитель’, *warjaz ‘защищающий’ —► ‘защитник’ и др.), а также отличающиеся высокой частотностью атрибуты, выражающие важнейшие качества, свойственные героической модели мира (ср. *rlkaz ‘могучий’, *meriz ‘знаменитый’, *berhtaz ‘блестящий’, *harduz ‘твердый’ и др.). Что касается bahuvrlhi, то в них противопоставление первых и вторых элементов практически нейтрализуется по чисто морфологическим причинам (так как второй элемент является ядром композита, а не всего словосочетания, в котором центр тяжести перемещается на обозначение посессивно-сти), и поэтому максимальная валентность характерна для одних и тех же компонентов: ср. *harja- (28) и - *harjaz (40), *gaiza- (19) и - *gaizaz (34), *heldjo- (15) и - *heldjo (25) и др. Однако, этот факт никоим образом не должен заслонять различий между первыми и вторыми членами, сохраняющихся также и в bahuvrlhi и объясняющихся, во-первых, актуальностью рассмотренного ранее принципа, согласно которому второй элемент воспринимается как ядро композита (этим, в частности, вызвана высокая валентность - *munduz ‘защиту (имеющий)’, ‘защитник’ (29) при *mundu- (1), - *r§daz ‘совет (имеющий)’ —> ‘советник’(26) при *reda- (2), *bergo ‘защиту (имеющая)’ при *bergo- (1), - *gardjo ‘ограду (защиту) (имеющая)’ —* ‘защитница’ (12) при *gardjo- (1) и др.); во-вторых, функционированием некоторых элементов только в первой позиции, например, в антропонимах обозначения богов широко распространены на первом месте (ср. *ansu- ‘ас’ (23), *alba- ‘эльф’ (14), *ragina- ‘боги’ (13), *guda- ‘бог’(11)) и отсутствуют на втором, так как человека нельзя было назвать богом из маги-ко-религиозных соображений, в-третьих, продуктивность первых членов связана с приобретением ими помимо семантической (информативной) и поэтической (декоративной, орнаментальной) функции: ср., в частности, *segez- ‘победа’ (29) или фигурирование *peuda ‘народ’ (19), *hroda- ’слава’(18), *auda- ‘счастье, богатство’ (16), *а1 а-’весь’ (13) только на первом месте или неодинаковую валентность элементов, обозначающих животных ( cp.-*wulbaz ‘волк’ (72) при *wulba- (11), -*bernuz ‘медведь’ (20) при *bernu- (8), отсутствие обозначений орла и кабана на втором месте в nom.pr. при *агпи- (15), *ebru-(10)), указывающая на семантическую дифференциацию в зависимости от позиции: акцентирование внимания во втором члене на принадлежности к конкретному виду и выделение типичных для этих животных свойств в первом члене (‘сильный’, ‘смелый’, ‘быстрый’ и др.).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: