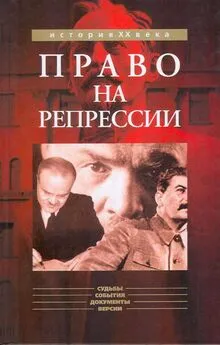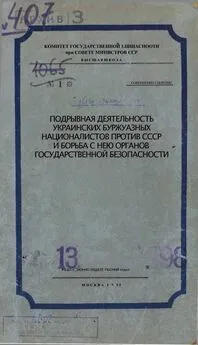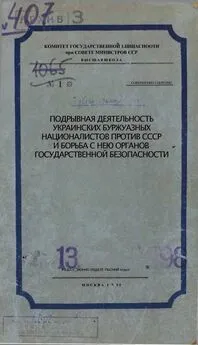Коллектив авторов - Лубянские чтения – 2020. Актуальные проблемы истории отечественных органов государственной безопасности
- Название:Лубянские чтения – 2020. Актуальные проблемы истории отечественных органов государственной безопасности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Родина
- Год:2021
- ISBN:978-5-00180-257-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Лубянские чтения – 2020. Актуальные проблемы истории отечественных органов государственной безопасности краткое содержание
Материалы конференции предназначены для специалистов, а также читателей, интересующихся историей России и отечественных органов и войск государственной безопасности.
Лубянские чтения – 2020. Актуальные проблемы истории отечественных органов государственной безопасности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однако, как отмечают исследователи, на практике направлению в Особое совещание подлежали дела, которые, исходя из оперативной либо политической целесообразности, не могли быть рассмотрены в судебных органах, т. е. фактически данный орган внесудебной репрессии никакими нормативными рамками стеснен не был и мог принять к своему производству практически любое дело [577] Мулукаев Р.С., Малыгин А.Я., Епифанов А.Е. Указ. соч. С. 216; Епифанов А.Е. Ответственность за военные преступления, совершенные на территории СССР в период Великой Отечественной войны (историко-правовой аспект): дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 241.
. Как правило, подведомственность дел Особому совещанию предрешалась заранее, с момента ареста, а иногда даже раньше, чем производился сам арест. Нередки были случаи, когда за отсутствием убедительных доказательств следствие опиралось на искусственно создаваемые так называемые оперативные соображения и нежелание подвергать расшифровке в суде методов оперативной работы, которыми и мотивировалось направление дел в Особое совещание. Это приводило упрощенчеству в сборе доказательств вины арестованных и укоренению порочных методов в следственной работе [578] Мозохин О.Б. Право на репрессии… С. 265.
. В ряде случаев дела основывались только лишь на агентурных данных либо на показаниях одного свидетеля, зачастую противоречащих позиции обвиняемых, категорически отрицавших свою вину [579] Кудрявцев В.Н., Трусов А.И. Указ. соч. С. 281–282.
.
Согласно справке, подготовленной 1-м Спецотделом МВД СССР в декабре 1953 г., Особым совещанием в 1941 г. за контрреволюционные преступления было привлечено к ответственности 26 534 человек, в 1942 г. — 77 548, в 1943 г. — 25 134, в 1944 г. — 10 611, в 1945 г. — 26 581 [580] ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918–1960. М.: МФД, 2000. С. 434.
. Таким образом, пик репрессий в военные годы пришелся на 1942 г. Представляется, что в первую очередь это было обусловлено тем, что в конце 1941 г. существенно были расширены полномочия данного внесудебного органа постановлением № ГКО–903сс и приказом № 001613. Кроме этого, именно в 1942 г. наиболее активно развивался и реализовывался институт репрессий в отношении родственников коллаборационистов. Вместе с тем, 1942 г. также характеризовался значительным усилением общего репрессивного подхода советского государства в отношении изменнической и иной контрреволюционной деятельности, обусловленным критическими условиями военной обстановки в тот период. Как указывалось в документе, количество лиц, как осужденных, так и привлеченных к ответственности во внесудебном порядке за совершение контрреволюционных преступлений, в 1942 г. составило 124 406 человек [581] Там же. С. 434.
. Вместе с тем, оценивать полноту и объективность приведенных в справке данных, затруднительно, поскольку отдельные статистические сведения, отраженные в ней, касающиеся результатов деятельности не только Особого совещания, но и военных трибуналов, имеют некоторые расхождения с другими источниками [582] Мозохин О.Б. Статистические сведения о деятельности органов ВЧК — ОГПУ — НКВД — МГБ (1918–1953 гг.): статистический справочник. М.: ООО «ТД Алгоритм», 2016. С. 197; Деятельность органов военной юстиции в годы Великой Отечественной войны. Материалы «Круглого стола» журнала «Государство и право» // Государство и право. 1995. № 8. С. 89–90.
. В связи с этим отметим также, что исследователями критически оценивается имеющиеся сведения о результатах работы Особого совещания. Обобщение и сравнение разных источников не позволяет однозначно судить о масштабе его репрессивной практики, поскольку содержащиеся в них данные зачастую носят несогласованный и противоречивый характер [583] Иванова Г.М. История ГУЛАГа, 1918–1958: социально-экономический и политико-правовой аспекты. М: Наука, 2006. С. 122; Кудрявцев В.Н., Трусов А.И. Указ. соч. С. 283.
.
Великая Отечественная война закончилась, но после ее окончания права Особого совещания оставались такими же, как и в военной обстановке. Предоставление Особому совещанию широких прав внесудебного рассмотрения дел и применения любых мер наказания в условиях войны не вызывалось необходимостью в мирное время, и тем не менее такие права за ним сохранялись (постановление № ГКО–903сс не было отменено вплоть до упразднения данного внесудебного органа). 18 сентября 1945 г. в совместной директиве НКВД СССР и НКГБ СССР № 162/101 предписывалось тщательно просмотреть все законченные следственные дела, те из них, которые могли рассматриваться в судебном порядке, подлежали направлению в соответствующие суды. До особого указания на рассмотрение Особого совещания при НКВД СССР разрешалось направлять только те следственные дела, которые нельзя было по оперативным или иным причинам передать в суд [584] Архив Управления ФСБ России по Свердловской области (АУФСБСО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 120. Л. 105.
.
Несмотря на то, что директива нацеливала следствие на более избирательный подход при выборе субъекта рассмотрения дела, она допускала широкие возможности личного усмотрения и следования соображениям целесообразности. Это также способствовало тому, что в послевоенные годы значительная часть дел, расследуемых органами госбезопасности, в нарушение основного законодательства о подсудности направлялась не в судебные органы, а в Особое совещание, где, конечно, значительно проще было добиться обвинительного приговора, нежели в суде [585] Мозохин О.Б. Право на репрессии… С. 263.
.
Реорганизация органов внутренних дел и госбезопасности в первые послевоенные годы организационно затронула и Особое совещание. В марте 1946 года НКВД и НКГБ по инициативе И.В. Сталина были преобразованы в министерства. МВД СССР и МГБ СССР существовали раздельно до 5 марта 1953 г., когда МГБ вошло в состав МВД СССР. В течение примерно четырех лет внесудебные репрессии в СССР осуществляли одновременно два Особых совещания — одно при МВД СССР, другое — при МГБ СССР. 2 ноября 1946 г. при МГБ СССР ведомственным приказом № 00496 было образовано собственное Особое совещание для вынесения внесудебных решений по следственным делам, ведущимся в МГБ. В этот же период продолжалась и внесудебная деятельность Особого совещания при МВД СССР, которое было упразднено только 21 июля 1950 г., а его секретариат был передан в МГБ. После объединения министерств новое Особое совещание при Министре внутренних дел СССР образовалось 14 марта 1953 г. и просуществовало до 1 сентября 1953 г. [586] Иванова Г.М. Указ. соч. С. 122–123; Мозохин О.Б. Право на репрессии… С. 259.
24 июня 1946 г. приказом МВД СССР, МГБ СССР и Генерального прокурора СССР № 00585/00251/107сс были отменены директивы, ограничивавшие освобождение в период войны изменников Родине, отбывших наказание, репрессивная функция которых была направлена, в том числе, и на усиление превентивных мер в отношении возможной коллаборации указанных лиц. Вместе с тем, приказ допускал исключение — «лица, хотя и подлежащие освобождению, но являвшиеся социально-опасными по своей прошлой антисоветской деятельности и по тяжести совершенных ими преступлений» по решению Особого совещания, вынесенного по результатам рассмотрения заключения комиссии и материалов заведенного учетного дела, подлежали направлению в ссылку [587] ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 38. Д. 282. Л. 60–67.
.
Интервал:
Закладка: