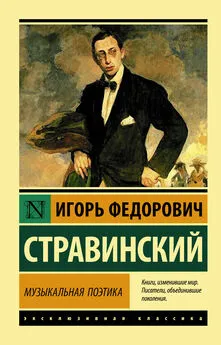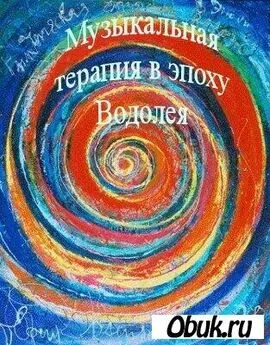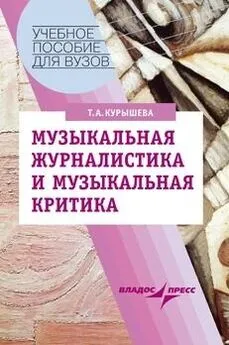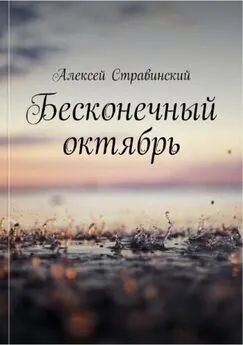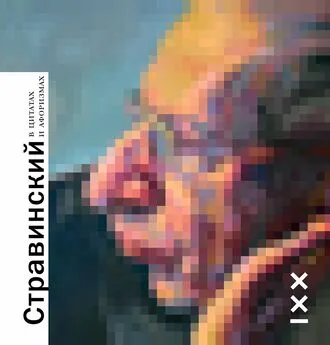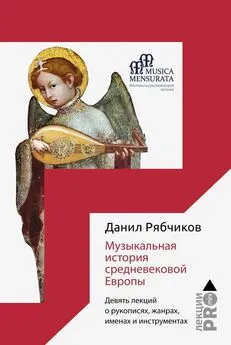Игорь Стравинский - Музыкальная поэтика. В шести лекциях
- Название:Музыкальная поэтика. В шести лекциях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-132803-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Стравинский - Музыкальная поэтика. В шести лекциях краткое содержание
Понятным даже неподготовленному читателю, живым и образным языком этот гениальный композитор рассказывает о тех фундаментальных элементах, которые формируют музыкальное творчество.
Что же такое музыка? Откуда берется вдохновение и какие материалы использует творец в своей работе? Как нужно исполнять музыку? И какова судьба русского музыкального искусства?..
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Музыкальная поэтика. В шести лекциях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Метод исключения – умение сбрасывать , как сказал бы картежник, – наилучшим образом подходит для нашей задачи. И здесь мы снова оказываемся перед тем, к чему обращались в ходе второй лекции, – перед поиском Единого в Множественности.
Мне было бы очень трудно показать, как этот принцип воплощается в моей музыке. Я попытаюсь передать это вам, опираясь скорее на общие тенденции, чем на конкретные факты. Если я противопоставляю резко контрастные звуки, то могу добиться сильного сиюминутного эффекта. Если же, с другой стороны, я намереваюсь соединить похожие оттенки, я достигаю своей цели более извилистым, но зато и более верным путем. Принцип этого метода раскрывает подсознательную деятельность, которая склоняет нас к единству, ведь инстинктивно мы предпочитаем целостность и ее спокойную силу беспокойной энергии хаоса – то есть мы предпочитаем царство порядка царству разнородности.
Поскольку мой собственный опыт подсказывает мне, что я обязан «сбрасывать», чтобы отбирать, и разделять, чтобы объединять, мне кажется, я могу применить этот принцип шире – ко всей музыке, и тем самым показать перспективу, предложить стереоскопический взгляд на историю моего музыкального искусства и увидеть, что представляет собой истинная физиономия тех или иных композитора или школы.
Это и будет нашей лептой в изучение типов музыки – типологию – и в исследование проблемы стиля.
Стиль – это тот особый способ, с помощью которого композитор организует собственные концепции и говорит на языке своего ремесла. Музыкальный язык – общий элемент для композиторов одной школы или эпохи. Вам, конечно же, хорошо знакомы музыкальные физиономии Моцарта и Гайдна, и вы уж точно сумели заметить, что эти композиторы близки друг другу, хотя те, кто знаком с языком того времени, легко их различают.
Наряд, который мода диктует носить людям одного поколения, навязывает своим обладателям особую, обусловленную тем или иным покроем манеру двигаться и вести себя. Подобным же образом музыкальный наряд, который носит эпоха, накладывает отпечаток на язык и, если так можно выразиться, жесты музыки, как и на отношение композитора к его рабочим материалам. В массе особенностей, помогающих нам определить, как формируются музыкальные язык и стиль, эти элементы представляются важнейшими.
Нет необходимости напоминать вам, что то, что называется стилем эпохи, – это результат сочетания индивидуальных стилей, сочетания, в котором господствуют отдельные методы композиторов, оказавших заметное влияние на свое время.
Возвращаясь к примеру Моцарта и Гайдна, мы можем заметить, что они пользовались материалом одной и той же культуры, черпали из одних и тех же источников и заимствовали друг у друга находки. Каждый из них, однако, творил свои собственные чудеса.
Можно сказать, что свет гения мастеров, которые в своем величии превосходят большинство современников, простирается далеко за пределы их собственного времени. Таким образом, они подобны мощным сигнальным огням – маякам, по выражению Бодлера; под действием их света и тепла развиваются тенденции, которые разделяют многие их преемники. Вот так и формируются традиции, составляющие культуру.
Эти великие сигнальные огни подсвечивают исторический фон искусства и обеспечивают преемственность, придающую истинное и единственно законное значение слову, которым часто злоупотребляют, – слову «эволюция». Ее почитали как богиню, а она оказалась, заметим в скобках, кем-то вроде бродяжки и даже дала жизнь незаконнорожденному дитяти-мифу, очень похожему на нее и названному Прогрессом с большой буквы «п»…
Для последователей религии Прогресса сегодня всегда стоит дороже, чем вчера; следовательно, считается, что в сфере музыки напыщенный современный оркестр – это шаг вперед по сравнению со скромными инструментальными ансамблями прежних времен, а вагнеровский оркестр – это шаг вперед по сравнению с оркестром Бетховена. Я оставляю за вами право судить, чего стоит такое достижение…
Прекрасная преемственность, обеспечивающая развитие культуры, становится общим правилом, допускающим, впрочем, несколько исключений, которые созданы как будто специально для его подтверждения.
В самом деле, если посмотреть вдаль, на горизонте искусства можно различить нечто вроде эрратических валунов [58] Эрратические валуны – глыбы, которые переносятся на большие расстояния от того места, где первоначально находились, ледником или оторвавшимся от ледника плавучим льдом.
, происхождение которых неизвестно, а существование необъяснимо. Эти валуны кажутся ниспосланными Небесами, чтобы подтвердить существование и, в какой-то мере, законность случайностей. Эти элементы, нарушающие непрерывность, эти забавы природы носят в нашем искусстве различные имена. Самую любопытную из них зовут Гектор Берлиоз. Уважение к нему велико. Это заслуга, прежде всего, brio [59] Блеск, живость, яркость ( итал .).
оркестра, что является свидетельством сомнительной оригинальности – оригинальности, ничем не оправданной и не достаточной для того, чтобы замаскировать бедность изобретения. И коль скоро утверждают, что Берлиоз – один из создателей симфонической поэмы, то я отвечу, что этот тип сочинения (который был, кстати, весьма недолговечным) не может рассматриваться наравне с великими симфоническими формами, поскольку полностью зависит от элементов, чуждых музыке. В этом смысле влияние Берлиоза – больше из области эстетики, чем музыки: в работах Листа, Балакирева, в ранних произведениях Римского-Корсакова оно ощущается, но ядра их музыки не затрагивает.
Великие сигнальные огни, о которых мы говорили, вспыхнув, всегда вызывают значительные волнения в мире музыки. Потом ситуация вновь стабилизируется. Интенсивность излучения света неуклонно ослабевает, и наступает момент, когда он не согревает больше никого, кроме педагогов. И тогда рождается академизм. Но вот появляется новый сигнальный огонь, и история продолжается, однако это не означает, что она продолжается без потрясений или несчастных случаев. Так уж получилось, что наша современная эпоха являет пример музыкальной культуры, которая изо дня в день теряет ощущение преемственности и вкус к взаимодействию.
Личная прихоть и интеллектуальная анархия, стремящиеся господствовать в мире, в котором мы живем, изолируют художника от коллег и заставляют его выглядеть диковинным чудищем в глазах публики – чудищем оригинальности, изобретателем собственных языка, словаря и аппарата своего искусства. Использование уже применявшихся материалов и устоявшихся форм ему запрещено. В итоге он вынужден разговаривать на причудливом диалекте, не имеющем никакого отношения к миру, который его слушает. Его искусство становится по-настоящему уникальным в том смысле, что его нельзя передать, и изолированным со всех сторон. Эрратический валун больше не редкость, которая есть исключение, а единственный пример, предлагаемый неофитам для подражания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: