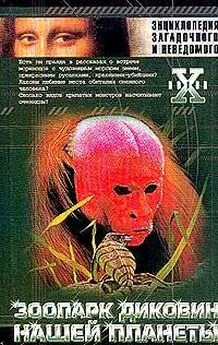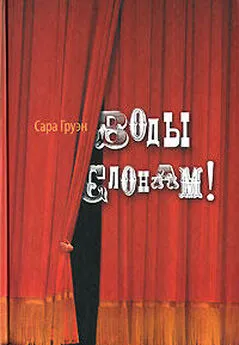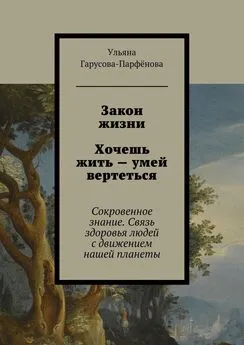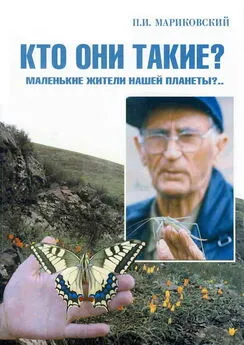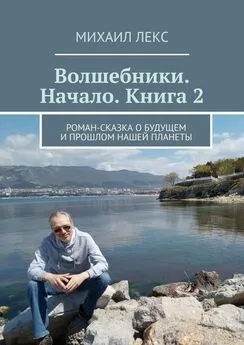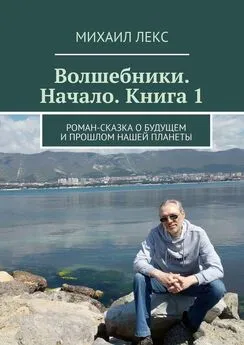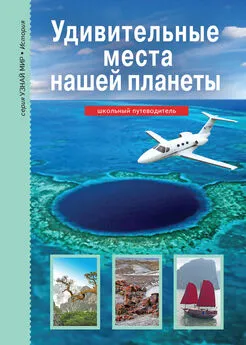Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты
- Название:Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина нон-фикшн
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785001394938
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты краткое содержание
Рассказывая о ее становлении, Сара Драй обращается к историям этих людей – историям рискованных приключений, бунтарства, захватывающих открытий, сделанных в горных экспедициях, в путешествиях к тропическим островам, во время полетов в сердце урагана. Благодаря этим первопроходцам человечество сумело раскрыть тайны Земли и понять, как устроена наша планета, как мы повлияли и продолжаем влиять на нее.
Понимание этого особенно важно для нас сегодня, когда мы стоим на пороге климатического кризиса, и нам необходимо предотвратить наихудшие его последствия.
Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вопрос, как именно эти все более многочисленные регистрограммы давления, температуры и других связанных с погодой показателей могли быть преобразованы в научные знания о погоде, оставался открытым. В 1870-х гг. британские метеорологи ощущали, что застряли на начальном этапе развития своей науки. То, чего когда-то добились астрономы, – способность делать точные предсказания на отдаленное будущее – казалось все менее достижимой целью. Между тем сама астрономия во многом утратила былую уверенность, обретенную ею после великих открытий Ньютона. Такие ученые, как Уильям Гершель, Эдвард Сэбин, Джон Гершель, Дэвид Брюстер, Жюль Жансен и, разумеется, Чарльз Пьяцци Смит, показали, что астрономия может быть не только картографической, но и физической наукой, и, сделав это, открыли перед ней совершенно новые, неизведанные миры. Зрелая астрономическая наука вдруг снова стала молодой, в то время как метеорология, по-прежнему пребывая в младенческом возрасте, отчаянно искала новые источники уверенности.
Скандал, разразившийся после смерти Фицроя, не помог сдвинуть дело с мертвой точки. Что касается автоматических обсерваторий, то их перспективность была далеко не однозначна: с одной стороны, они давали возможность осуществить мечту фон Гумбольдта – распутать нити природных сил и изучить их; с другой стороны, они ставили под сомнение способность ученых справиться с растущими объемами данных. С этой проблемой уже столкнулись астрономы-одиночки, добросовестно, ночь за ночью, наблюдавшие за небом в одной точке и фиксировавшие увиденное. Как же обрабатывать потоки данных после того, как обсерватории по всему земному шару будут оборудованы множеством приборов-самописцев?
Срочно требовалось придумать новые способы изучения этих бесчисленных регистрограмм. Гумбольдт предвидел эту проблему еще в 1830-х гг. и убедил Генриха Бергхауза опубликовать своего рода графический справочник к своему труду «Космос» – «Физический атлас», в котором, помимо прочего, с помощью диаграмм были представлены изменения климата, флоры, фауны и геологических особенностей по всему земному шару. В Британии Фрэнсис Гальтон придумал визуальный способ нахождения средних значений для метеорологических регистрограмм, состоявший в наложении друг на друга серии таких кривых и графическом определении средней линии. Эти и другие новаторские методы визуального анализа обещали заменить субъективные суждения метеорологов объективным знанием, основанном на изобилии данных, которое обеспечивалось приборами-самописцами. Однако, как на основе разрастающихся объемов регистрограмм выйти на новый уровень понимания физических процессов, по-прежнему оставалось неясно. Кроме того, объемы данных были неравны: одних – слишком много, других – недостаточно [105] Robert Brain and M. Norton Wise, «Muscles and Engines: Indicator Diagrams and Helmholtz's Graphical Methods,» in Universalgenie Helmholtz: R ü ckblick nach 100 Jahren , ed. Lorenz Krüger (Berlin: Akademie-Verlag, 1994), 124–145; Lorraine Daston and Peter Galison, «The Image of Objectivity,» Representations 40 (1992): 81–128.
.
Одна из проблем заключалась в том, что атмосфера была объемной, тогда как метеорологи располагали данными, собранными, главным образом, у поверхности земли. Это стало одной из причин, по которым Пьяцци Смит так увлекся спектроскопом. Прибор позволял наблюдателю одномоментно охватить взглядом всю невообразимую толщу атмосферы, отделявшую его от космоса, что было большим преимуществом, но также и серьезным недостатком: спектроскоп не давал возможности наблюдать по отдельности разные слои атмосферы. Каждая молекула на линии наблюдения отражалась на спектрограмме. Таким образом, спектроскоп сглаживал неоднородность атмосферы и позволял отслеживать изменения ее общего состояния. Но Пьяцци Смит мирился с этой особенностью, считая, что преимущества такого наблюдения перевешивали недостатки.
Были и другие способы узнать, что происходит в атмосфере, например подняться в небо и вести наблюдения непосредственно in situ (на месте). В 1850-х гг. состоялось несколько полетов на воздушных шарах. Их инициаторы стремились проложить дорогу к новым метеорологическим знаниям, но в не меньшей степени ими двигал дух приключенчества, характерный и для полярных экспедиций той эпохи. Эти полеты повысили (в буквальном смысле!) престиж метеорологии и захватили воображение широкой общественности. Но их организация была делом дорогостоящим, а сами они – очень рискованными, и при этом наблюдения можно было вести на протяжении нескольких часов лишь в одном вертикальном столбе атмосферы. Выстроить последовательное знание посредством таких единичных вылазок в небо оказалось невозможно.
Подняться в небо, скорее в образном, а не буквальном смысле, ученые могли, обратив более пристальное внимание на облака, ведь те находились в воздушных потоках, формировавших погоду и климат, и, исследуя их размеры, форму и движение, можно было составить карту невидимого воздушного океана. Подобно флагам, реющим в верхних слоях атмосферы, облака показывали наблюдателям на земле, в какую сторону дует ветер, какова его сила, а также сколько водяного пара присутствует в воздухе. Другими словами, они могли не только, к огорчению астрономов, заслонять небеса, но и, напротив, помогать заглянуть в таинственные верхние слои атмосферы, чтобы выявить закономерности движения воздушных масс [106] Lorraine Daston, «Cloud Physiognomy,» Representations 136, no. 1 (Summer 2016): 45–71; Richard Hamblyn, The Invention of Clouds: How an Amateur Meteorologist Forged the Language of the Skies (London: Picador, 2001).
.
Классификация облаков стала первым шагом на этом пути. Предложенная Люком Говардом в начале XIX в., она позволила упорядочить их изучение. Однако он не мог с уверенностью сказать, применима ли его систематизация повсеместно. Одинаковы ли облака по всему земному шару или же в разных частях света есть свои специфические типы облаков? Век уже подходил к концу, а никто так всерьез и не попытался ответить на этот вопрос. Только в 1885 г. состоятельный метеоролог-любитель по имени Ральф Эберкромби отправился в кругосветное плавание, задавшись именно этой целью – определить, насколько универсальна система Говарда. Он установил, что основные типы облаков действительно универсальны, хотя в разных местах земного шара могут предвещать разную погоду [107] Ralph Abercromby, Seas and Skies in Many Latitudes, Or Wanderings in Search of Weather (London: Edward Stanford, 1888).
.
Эберкромби описал визуальные наблюдения за облаками, но его открытие вдохновило ученых на поиск более точных научных методов их исследования. Если облака универсальны, значит, они могут помочь раскрыть тайны не только местной погоды, но и погодных моделей и факторов планетарного масштаба, существование которых становилось все более очевидным. Однако, в отличие от температуры, давления и даже осадков, облака принадлежали к тому «обширному классу явлений, которые не могут быть зарегистрированы инструментально, но которые тем не менее требуют тщательного отслеживания в связи с их важностью как индикаторов изменений, непрерывно происходящих в атмосфере». Другими словами, облака невозможно было наблюдать с той степенью объективности, которая достигалась с помощью инструментальных измерений, однако их значение было слишком велико, чтобы обходить это вниманием. «Чрезвычайно трудно, – писал К. Г. Лей в предисловии к работе своего отца "Страна облаков" (Cloudland), посвященной классификации облаков, – описывать неопределенный и сложный предмет каким-либо иным образом, кроме столь же неопределенного и сложного» [108] William Clement Ley, Cloudland: A Study on the Structure and Character of Clouds (London: Edward Stanford, 1894), vii.
. Требовался прибор, способный фиксировать облака так же, как барометр фиксирует давление, а термометр – температуру: мгновенно, точно и надежно. К 1870-м гг. техника фотографии достигла необходимого прогресса, а время выдержки стало достаточно коротким, чтобы фотографическая камера могла предложить решение этой проблемы.
Интервал:
Закладка: