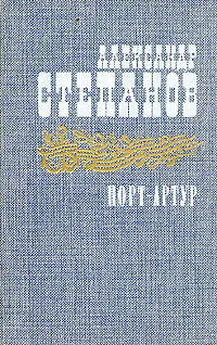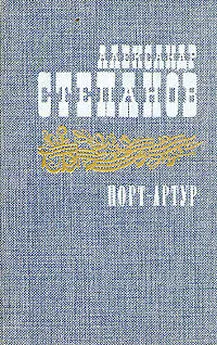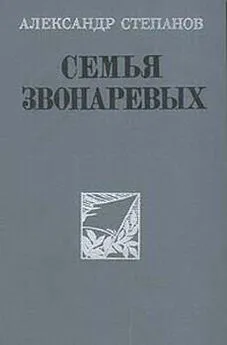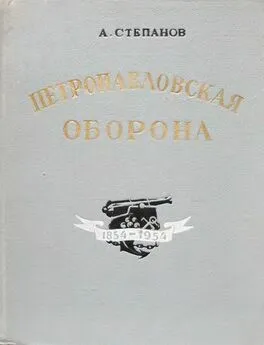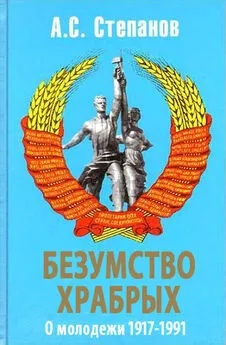Александр Степанов - Очерки поэтики и риторики архитектуры
- Название:Очерки поэтики и риторики архитектуры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814789
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Степанов - Очерки поэтики и риторики архитектуры краткое содержание
Очерки поэтики и риторики архитектуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Рядом с такими семантическими затеями советский шедевр Жука выглядит технологической абстракцией, чистым дизайном. Подхватывая этот контраст, Гримшоу сделал северный посадочный блок, симметричный терминалу Жука, абстрактно-геометричной стекляшкой.
Риторический принцип контраста проведен сэром Николасом и внутри здания – в архитектуре зон вылета и прибытия. Будучи разведены по разным уровням, они резко различаются характером опор, потолков и освещения, хотя в построении обеих господствует продольный, широтный вектор и обе пронизываются низко стоящим утренним и вечерним солнцем, но не дневным, лучи которого выхватывают только южную кромку помещений. Войдя в зону регистрации, вы чувствуете, как длинные ребра потолка, стянутые друг с другом только в редких точках на линиях перспективы, увлекают ваше воображение вдаль к где-то там ждущему вас самолету. Узкие ромбические зазоры длиной сорок пять метров каждый, сквозь пирамидальное остекление которых вы видите небо, – метафора воздействия направленной вверх и вдаль, как при взлете самолета, энергии, которая раздвигает складки потолка.
Совершенно иначе устроена двухэтажная зона прибытия. Из автобуса, доставившего вас с самолета, вы входите на первый этаж северного посадочного блока. Поднявшись на галерею, проходите на второй этаж главного здания (в это время над вами, по второму этажу галереи, идут люди в посадочный блок) на паспортный контроль. Миновав его, шествуете вдоль северной стены к спуску на выдачу багажа и, получив его, выходите в зал ожидания. В этой зоне колонны круглые, расставленные по сетке восемнадцать на девять метров или девять на девять. К перекрытиям подшиты в направлении запад – восток серые пластиковые поблескивающие полосы с параллельными темными щелями между ними. То приподнимаясь, то опускаясь, они похожи на быстрые струи холодной реки, сопровождающей вас на всем пути от паспортного контроля до выхода из терминала к такси и автобусам. Метафора дельты Невы. Попробуйте представить таким же потолок зоны регистрации – и вы убедитесь, сколь многое потеряли бы воздушные ворота Петербурга в памяти тех, кто улетает за границу.
Подчиняясь архитектурной риторике сэра Николаса, Петербург в своем воздушном терминале встречает прибывших холодно, провожает же улетающих тепло. Мне такая схема кажется реалистичной: Питер действительно не раскрывает объятий каждому, но, проникая в сердце постепенно, компенсирует первоначальное недружелюбие с избытком. Жаль только, что господа, руководящие консорциумом ВВСС («Воздушные Ворота Северной Столицы»), не удержались от того, чтобы загромоздить безликими постройками площадь, предусматривавшуюся генеральным планом британских архитекторов с восточной, подъездной стороны терминала. Кто теперь может увидеть его главное здание во всю ширь прекрасных фасадов? Разве что мельком – пассажиры из иллюминаторов лайнера или водители на парковке между терминалами Жука и Гримшоу? Лучшее здание, построенное в Петербурге в последнее десятилетие, практически скрыто от глаз.
Эпилог
Пространство и стена
Чего я хочу от архитектуры?
Чтобы она доставляла удовольствие.
Удовольствие, разумеется, зрительное, которое может дополняться не слишком длительными состояниями движения и покоя, разнообразием осязательных ощущений, не угнетающими слуховыми ассоциациями.
А комфорт?
Комфорт и удовольствие – не одно и то же. Комфорт должен быть нормой жизни, настолько постоянной, что я могу, если это подлинный комфорт, не замечать его. Удовольствие же невозможно не заметить. Удовольствие, ставшее нормой, которую перестаешь замечать, – не удовольствие, а комфорт. Комфорт обеспечивается не архитектурой, а инженерией, техникой, дизайном.
Я хочу, чтобы архитектура была приятным, подчас воодушевляющим зрелищем, за исключением мемориалов, которые могут быть печальными, тревожными, трагическими, хотя и они способны воодушевлять, пробуждать человечность через сопричастность чужому страданию. И я не хочу, чтобы архитектура была множеством каких-то жизненно необходимых, но эмоционально никак не действующих на меня объектов или таких, которых лучше бы не видеть.
Это не значит, что, созерцая архитектуру, я ищу удовольствия вроде слушания приятной или воодушевляющей музыки. Потому что архитектура, в отличие от музыки, должна сообщать практически полезную информацию. По этой же причине я не хочу от архитектуры удовольствия, доставляемого живописью или скульптурой, потому что у них свои сюжеты, чаще всего независимые от нашей повседневности.
Аналогией удовольствия, которого я хочу от архитектуры, являются впечатления не от музыки и не от пластических искусств, а только от живой человеческой речи . Потому что осмысленная речь, помимо благозвучия, сообщает полезную информацию.
Я хочу, чтобы архитектура как область зрительного переживания была живой речью .
Метафора «архитектурной речи» может навести на семиотические размышления об «языке архитектуры». Но, по-моему, говоря об архитектуре, надо идти от речи не к семиотике, а к филологии, к теориям красноречия.
Архитектурная речь становится живой, то есть приятной и воодушевляющей, если она, с одной стороны, информативна. Информативность архитектуры – это сообщение о том, чем является данное здание и как нам надо себя вести перед ним и внутри него. Информативность речи обеспечивается опорой на поэтику того или иного архитектурного жанра.
Другая сторона живой архитектурной речи – привлекательность формы, в которой подана эта информация. Привлекательность обеспечивается риторическими способностями и приемами архитектора. Как я старался показать в этой книге, риторические средства, использованные в каждой постройке, уникальны.
Для меня было воодушевляющим открытием, что Альберти часто обращался к античным сочинениям по риторике. Процитирую несколько подтверждающих это фрагментов с комментариями Василия Зубова – непревзойденного знатока архитектурной теории Альберти.
«Первое качество в зодчестве, – утверждал Альберти, – судить правильно о том, что подобает» 994 994 Альберти Л. Б. Указ. соч. Кн. IX, гл. 10.
. Зубов замечает: «Точно так же и по Квинтилиану, оратор должен обращать внимание не только на то, что полезно, но и на то, что подобает. Еще раньше Цицерон говорил о том же: (…) „Оратор… должен позаботиться о подобающем не только в содержании мыслей, но и в словах, «ибо не во всяком положении, звании, власти, возрасте и не о всяком месте, времени или слушателе следует говорить в тех же словах или теми же фразами“» 995 995 Зубов В. П. Указ. соч. С. 84.
. Альберти писал: «Части, находящиеся на своем месте… становятся красивее на вид; находящиеся в месте чуждом, их недостойном и на неподобающем, дурнеют» 996 996 Альберти Л. - Б. Указ. соч. Кн. IX, гл. 7.
. Зубов комментирует: «У Квинтилиана: „Что в одном месте великолепно, то в другом напыщено, и то, что низко в отношении великих вещей, то является подходящим для меньших“» 997 997 Зубов В. П. Указ. соч. С. 85.
. В полном соответствии с античными риторами мыслил Альберти отношение между эстетическим и полезным. Он повторяет знаменитый цицероновский пример, относящийся к поэтике храма: «Когда стали размышлять, как устроить скаты крыши на обе стороны, дабы вода с нее стекала, признали пользу фронтона, сообщающего зданию вместе с тем и достоинство; и вот почему, будь Капитолий построен на небесах, где дождя не бывает, оказалось бы, что без фронтона он всякого достоинства лишился бы» 998 998 Альберти Л. - Б. Указ. соч. Кн. VII, гл. 11.
. «Альберти, – пишет Зубов, – мыслил „ необходимость “ как первую во времени стадию развития архитектуры . У римских теоретиков ораторского искусства точно так же речь возводится к первобытной необходимости своего „доэстетического существования“» 999 999 Зубов В. П. Указ. соч. С. 86.
. И для них, и для Альберти « ornamenta [украшения. – А. С. ] являются не привходящими извне, по существу излишними „прикасаниями“, а чертами и деталями конкретно индивидуализирующейся реальности. „Ошибочной будет та постройка, – говорит он, – которой, хотя бы в устройстве ее фундаментов и не было ничего плохого, все же недоставало бы украшений“» 1000 1000 Альберти Л. - Б. Ук. оч. Кн. IX, гл. 8.
. «В вульгарном представлении слова „риторика“ и „украшение“ связываются чаще всего с бесполезным „плетением словес“ и „украшательством“, – продолжает Зубов. – Все сказанное показывает, наоборот, что эллинистически-римская риторика в лице Цицерона и Квинтилиана… не только не была „формалистической“, но ставила вопросы о выражении социального содержания гораздо шире, чем применительно лишь к одним техническим задачам своего искусства. Теоретические сочинения Цицерона и Квинтилиана, ставя общие вопросы эстетики, являются… важнейшими источниками, позволяющими судить о том, что можно было бы назвать античной „социологией“ или точнее – „этологией“ искусства, исследовавшей выражение ηθος, „нрава“ и „характера“ в искусстве, учением о художественно-характерных формах выразительности . Это именно обстоятельство не могло не привлечь внимания Альберти при написании трактата „О зодчестве“». И Зубов резюмирует: «Представление об архитектуре, как одном из видов человеческой речи , позволило Альберти поставить выпукло и остро вопрос о социальной природе архитектуры, о выражении человеческой индивидуальности и целых общественных групп во всем богатстве их специфических отличий» 1001 1001 Зубов В. П. Указ. соч. С. 89, 91 (курсив Зубова).
.
Интервал:
Закладка: