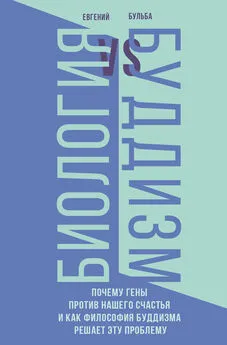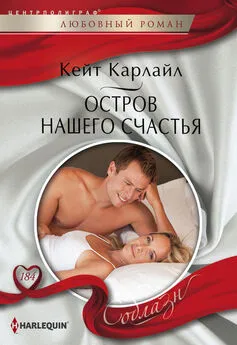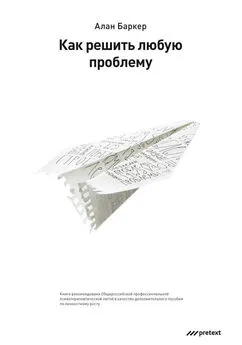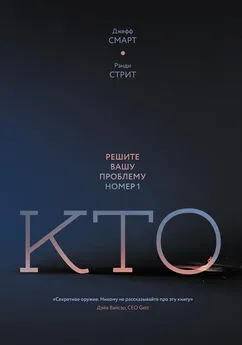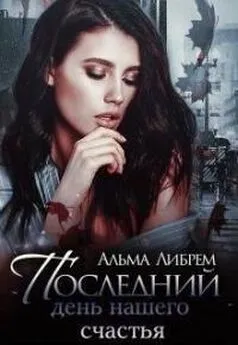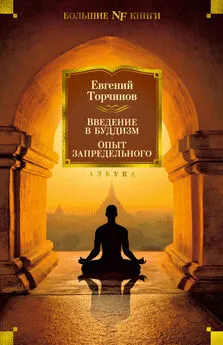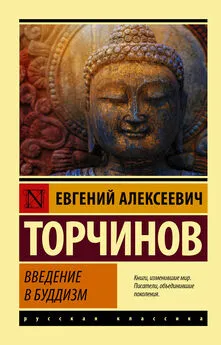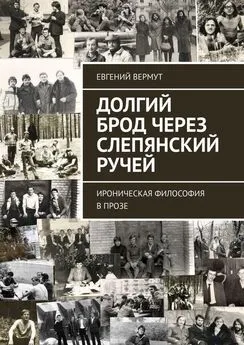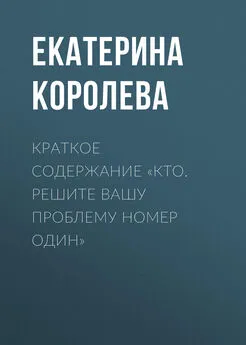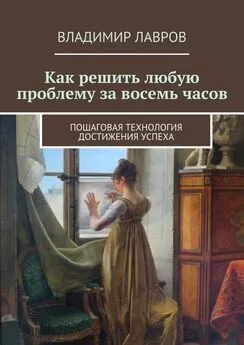Евгений Бульба - Биология и Буддизм. Почему гены против нашего счастья и как философия буддизма решает эту проблему
- Название:Биология и Буддизм. Почему гены против нашего счастья и как философия буддизма решает эту проблему
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-113958-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Бульба - Биология и Буддизм. Почему гены против нашего счастья и как философия буддизма решает эту проблему краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Биология и Буддизм. Почему гены против нашего счастья и как философия буддизма решает эту проблему - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Почему это скорее парохиальность, а не родственный альтруизм? Потому что одновременно с этим молодые самки периодически переходят в другие группы и становятся там «своими». Граница «свой – чужой» прочерчена ясно и проходит не на родственном, а именно на групповом уровне. Во время таких рейдов чаще всего убивают детенышей, при этом детеныш настолько «чужой», что «дегуманизируется», точнее «дешимпанзируется». Его могут тут же разорвать и съесть – это не равное существо, а добыча, что-то постороннее. Излишне говорить, что внутри стаи такое невозможно представить.
Можем сделать промежуточный вывод из двух утверждений. Первый: другие парохиальные животные редко убивают. Второй: другие парохиальные животные не так альтруистичны. К сожалению, из этого следует шокирующий вывод: люди альтруистичны, потому что много убивали.
В последние годы активно обсуждается идея того, что человеческое общество развивалось благодаря «сопряженной эволюции парохиального альтруизма и войн». Согласно этой теории, которую проверяют на математических моделях, альтруизм мог развиться только одновременно с ксенофобией. Собственно, можно сказать даже более прямо: эти два качества порождают, развивают и усиливают друг друга. Получается, что наша нравственность произрастает из агрессии, а доброта и взаимопомощь не могли появиться без насилия.
В 2009 году в Университете Санта-Фе попытались понять, сколько жертв нужно было для того, чтобы человек обрел сегодняшнюю готовность к сотрудничеству. Для построения такой модели применялись данные раскопок стоянок палеолитических охотников-собирателей и этнографические данные по последним незатронутым цивилизацией племенам, которые еще недавно вели кровопролитные войны. Выводы оказались чудовищными – от 5 до 30 % всех смертей в палеолите приходилось на военные действия. Даже с появлением современного оружия, в короткий период двух мировых войн, человечество не смогло приблизиться к этой цифре. Человечество заплатило поистине высокую цену за устремление «возлюбить ближнего своего».
Если окружающая обстановка не требует объединения в группу и если объединение в группы опасно, мы все равно будем находить признаки, по которым станем разделять людей на своих и чужих [74] Разделение на враждующие группы обобщенно называется трибализмом.
. Современная городская жизнь вовсе не требует быть приверженцем какой-либо группы, однако мы находим массу поводов, чтобы причислять себя к какой-то общности, даже если эта общность существует только в нашем представлении. Например, разделение на религии могло бы не приводить к столкновениям, если бы при этом парохиальность не заставляла людей противопоставляться иноверцам. Если человек исповедует свою религию, не привнося в это парохиальность, то он мирно уживается с другими. Но как только он объединяет себя с единоверцами, начинается вражда с иноверцами. Парохиальность требует своего выхода, она древнее и глубже, чем религии, – и вот уже там, где нет иноверцев, люди придумывают внутрирелигиозные отличия, чтобы оправдать собственную агрессию. В результате шииты воюют с суннитами, а католики – с протестантами…
Для того чтобы себя обезопасить, преступники объединяются в группировки, однако же, как только они становятся членами банды, риски увеличиваются многократно. Очевидный парадокс – надуманная опасность приводит к поиску безопасности, та ведет к трибализму, который создает реальную опасность. Для любого члена такой жестко ограниченной группы риск быть раненым или убитым как чужими, так и своими гораздо выше, чем для людей, не относящихся ни к какой группе. Парохиальность лежит в основе войны и политики, религии и спорта, наций и рас, классов, кланов и сословий. Попробуйте представить жизнь без всего этого.
Наша парохиальность приводит к групповому альтруизму и ксенофобии – мощным врожденным инстинктам. В течение сотен тысяч лет люди жили небольшими племенами, жестко враждовавшими друг с другом. Парохиальность нельзя назвать просто склонностью – это прошивка, одна из фундаментальных составляющих вида.
В индустриальном городе вокруг нас не сотня хорошо знакомых лиц, а десятки тысяч, из которых мы с трудом эмоционально выделяем несколько сотен. В таких условиях мы лишены своей реальной малой группы, границ того, что надо защищать. Группы нет, но инстинкт остался! И мы начинаем выдумывать группы там, где их нет. Мы вступаем сразу в несколько групп по эмоционально близким признакам. Пожилая темнокожая мусульманка в разных ситуациях будет периодически фиксироваться на том, как угнетают пожилых, черных, женщин и мусульман. В результате сегодня она будет до пены у рта ругаться с белой соседкой на расовую тему. Завтра с ней же пойдет на демонстрацию феминисток и будет пинать черного полицейского из ограждения. Послезавтра вместе с ним и соседкой будет пикетировать муниципалитет, чтобы для пожилых людей построили хоспис, а на следующий день разругается со всеми, потому что они «угнетают мусульман». Добавим к этому еще то, что наша героиня – хуту, социалистка, веган, верит в мировой заговор… и имеет еще сотню подобных причин, чтобы отнести себя к какой-нибудь группе. Это может показаться забавным казусом, но именно так начинается ненависть, трибализм, войны и геноцид. Возможно, это объяснение покажется наивным и умудренные экономисты и политологи скажут, что на все есть экономические предпосылки… Но мы рассматриваем самые базовые понятия, от которых до экономики еще несколько уровней. Кроме того, политики и олигархи, развязывающие войны, также ощущают себя членами воюющей группы. Терроризм, священные войны и прочее были бы невозможны без организационной и финансовой поддержки. Богатый человек и политик отличаются от того, кто непосредственно жмет на курок, только толщиной кошелька и выбором оружия, но мотивации и инстинкты у него те же.
К сожалению, еще один мрачный вывод – внешний враг необходим для появления группового альтруизма и также необходим для его усиления.
Общечеловеческая ксенофобия является прямым проявлением парохиальности. Чем более четко очерчены границы группы, тем более выражена ксенофобия и тем чудеснее кажутся отношения внутри группы по сравнению с менее сплоченными. Всем нам знакомо это легкое чувство зависти при виде объединенной по национальному или профессиональному признаку группы людей, которые помогают друг другу, заботятся друг о друге. Всем нам хотелось бы оказаться в атмосфере такой отзывчивости и взаимопомощи. Что ж, плохая новость – чем явнее очерчена граница группы, тем менее ее члены склонны так же хорошо относиться к представителям других групп. Люди объединяются в национальные землячества и заботятся друг о друге, но внутри землячеств вырастают криминальные кланы, которые не видят ничего зазорного в том, чтобы убивать представителей других групп: итальянская мафия, мексиканские банды, цыганские группы аферистов, исламские террористы… Объединение не обязательно происходит по национальному признаку – профессиональные воры организуют братства и фонды взаимопомощи, придерживаются кодекса справедливости, тем не менее в основе лежит понимание, что красть у всех остальных – это хорошо.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: