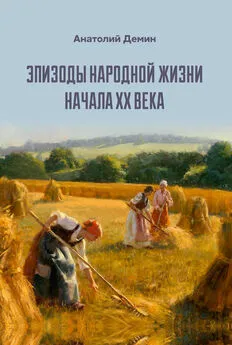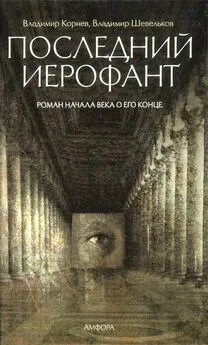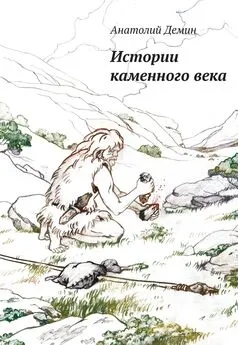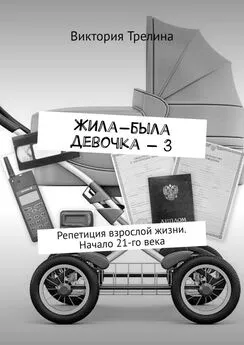Анатолий Демин - Эпизоды народной жизни начала XX века
- Название:Эпизоды народной жизни начала XX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-88010-723-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Демин - Эпизоды народной жизни начала XX века краткое содержание
Детальное воспроизведение быта создаёт эффект присутствия в крестьянской среде, а используемый в прямой речи персонажей народный говор позволяет услышать живую народную речь того времени.
Книга может быть полезна и интересна всем, кто хотел бы расширить свои знания о жизни простых людей в России на рубеже XIX-ХХ веков.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Эпизоды народной жизни начала XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В иные дни в очереди к Трофиму Ивановичу выстраивалось не меньше дюжины телег, гружённых мешками с пшеницей, но чаще с рожью и совсем редко с прочим зерном. Ездить-то на мельницу хозяевам приходилось довольно часто, потому как, в отличие от зерна, запасённую впрок надолго муку от порчи не уберечь. Тут, как ни старайся, как за ней ни доглядывай, а всё одно: либо прогоркнет, либо мучной червь в ней заведётся. Посему обычно и не делают в семьях мучной припас больше чем на месяц. Оттого же и очереди случаются на мельницах, и трудов у мельников, считай, круглый год, как говорится, дай Бог управиться. И увидишь их утром ли, в полдень ли, вечером ли не иначе как присыпанными с головы до ног мучной летучей пылью, и без помощников умельцам-мукомолам никак не обойтись.
У мастера своего дела Нефёдова Трофима к тому времени тоже было двое подмастерьев – сын Иван восемнадцати лет и ровесник Ивана, племянник Зиновий, к коему, правда, полным именем почему-то не обращались, а все звали Зиной, на что он, по своей незлобивости, совсем не обижался. Хороши были помощники – грех жаловаться! Оба до работы охочие, оба дюжие, проворные, разуменьем не обиженные – все поученья с полуслова схватывали. Да и лицом двоюродные братья были сильно схожи. Но вот характером, или «карахтером», как выговаривал это слово Трофим, разнились так, будто и вовсе взросли не от одного дедовского корня. Иван – суровый, с серьёзным колючим взглядом, молчун редкостный, слово лишнее сказать для него – что рубль потратить на баловство. При том ревностно относился к обращённым к нему речам – ровно дитя, любил ласковое слово и обижался на упрёчное. Зиновий же был, напротив, весёлым, улыбчивым, словоохотливым. Про таких говорили: душа нараспашку.
Однако, когда у мельницы народ в очереди мается и лошади томятся, не до разговоров. Тут успевай только поворачиваться. Приезжие-то мужики мешки с зерном занесут в мельницу к весам, поставят рядом и дальше уж их не касаются. Иван с Зиной ставят мешок за мешком на весы, взвешивают их на глазах хозяев. Трофим Иванович в тетрадочку веса карандашиком записывает, потом итожит и объявляет, сколько пудов и фунтов привезено на помол и сколько, стало быть, муки мельник оставит в уплату, как всем известную десятую часть – десятину. Этой вот десятиной он потом перед Спиридоновыми отчитается. Коли тут заказчик со всем соглашался, то мельник просил его в том расписаться. Неграмотные же на месте подписи ставили крестик, а помощники, не мешкая, взваливали в очередь мешки на плечи и несли по шатким деревянным мосткам вверх к приёмному бункеру, ловко ссыпали в него зерно, откуда оно шуршащим ручейком спешило по коробу вниз к жерновам. Но вот когда иной раз заезжали на мельницу незнакомые особо недоверчивые мужички и затевали спор, приходилось братьям и раз, и два заново взвешивать мешки, покуда эти привереды не убеждались в честности мельника и его помощников.
Приводное колесо у лопатинской мельницы большое, вода из Плавицы сверху быстротекущим потоком падает на колёсные плицы, тяжестью своей заставляя через них вращаться колесо вместе с намертво соединённым с ним валом, уходящим через стену мельницы в её нутро. Внутри же сам вал понуждает к вращению так же жёстко насаженное на него второе – рабочее зубчатое колесо, кое и приводит в работу мельничные жернова, будучи хитроумно сцепленным с похожим зубчатым колесом, насаженным на вал верхнего подвижного жернова.
Шум от работающей лопатинской мельницы далече раздаётся. Да и не дивно! Ведь шумит падающая на плицы вода; ещё громче вещует о себе Плавица, водопадом уходящая через плотину в родное русло; мельничный вал стонет и поскрипывает на скользящих опорах, будто жалуясь на свою тяжкую трудовую долю; несмолкаемые разговоры ведут меж собой зубчатые колёса; вплетают в сей громкий хор свои голоса и каменные жернова. Из-за несмолкаемого шума, должно быть, нижний приплотинный кусок речного русла народ стал называть «бучало». Но слышит этот шум только непривычное к нему ухо, а у живших рядом и неподалёку людей быстро притупился к нему слух, и шедшие со стороны плотины звуки они вовсе не замечали. Внутри же мельницы, хоть работники как бы тоже не слышали монотонной песни падающей воды, колёс и жерновов, говорить с друг другом приходилось, напрягая горло.
– Иван, Зина, что вы там замешкались? – прикрикнул на сына с племянником мельник. – Давай шустрей к лотку, мука пошла.
А это значило, что надо было пустой мешок поднести к лотку, расправить как надо и, удерживая за края, подставить под стекающий с лотка мучной ручеёк, пока мешок не наполнится в меру – так, чтобы осталась свободной его верхняя часть, и, не просыпав на пол ни щепотки муки, поменять у лотка загруженный мешок на следующий – пустой. Перемолов всё зерно очередного заказчика, мешки с мукой подготавливались к погрузке на телегу и перевозке, для чего свободные верхние их части обжимались в тугой свёрток и по самому его низку обвязывались крепкой бечёвкой. За такой свёрток, называемый хохлом, удобно хвататься и, рывком взваливая на спину, тащить и класть на повозку или зимой на сани, но прежде того мешки с мукой надо было сызнова взвесить. Для чего бы это? Да всё очень просто. Ведь мешок – это мера объёма, притом приблизительная, а пуд и фунт – точные меры веса. И если сдал мужик на помол, к примеру, два с половиной пуда зерна, то и муки он должен был получить столько же – два с половиной пуда, за вычетом десятой доли в уплату за помол; поэтому без весов на мельнице обойтись очень трудно. Встали они купцам Спиридоновым в немалую копеечку, но денег им было не жалко. Хороши были весы. Видом своим они напоминали двух огромных уток с чугунными поддонами на спинах, присевших рядышком – грудь в грудь, почти соприкасаясь своими красными клювами. Взвешивать на них можно было груз от четверти фунта до пяти пудов. На большой чугунный поддон, называемый грузовым, клали мешки, на другой, называемый гиревым, – гири весом от двух пудов до четверти фунта. Когда общий вес гирь сравнивался с весом мешков, красные клювы уток устанавливались точно напротив друг друга. После того оставалось только подсчитать сумму весов всех установленных гирь. Десятину же обычно отвешивали на ручных весах – безмене.
Однажды что-то случилось с весами, будто заклинило напрочь. Беда! Как без весов-то? Ну привёз старший Спиридонов из Плавска умельца-слесаря для починки, а Ивану с Зиной приказал присматриваться к работе умельца да и подсобить ему, коли нужда в том станется. «Вы, – говорит, – ребята сметливые. Авось скумекаете, как устроен механизм-то. Глядишь, другой раз, коль поломка случится, своими силами почините; а я вам за то по пятиалтынному в таких случаях платить обещаю каждому».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: