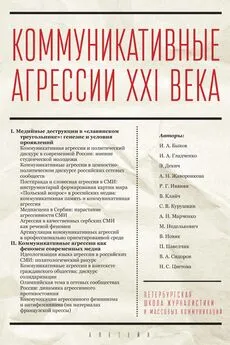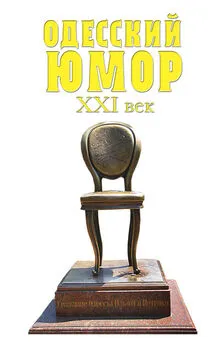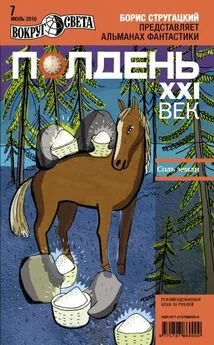Коллектив авторов - Коммуникативные агрессии XXI века
- Название:Коммуникативные агрессии XXI века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-907189-84-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Коммуникативные агрессии XXI века краткое содержание
Коммуникативные агрессии XXI века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Стоит также заметить, что видение сформированного постправдой мира может составлять основу самообмана. Это действие, в результате которого человек «приводит себя в состояние убеждения о противоречивости предварительного распознавания действительности или его познания доступными ему объективными средствами» 81 81 Худой В. Ложь общественная и его следствия // Ошибка антропологическая / под ред. А. Марынярчык, К. Отупеть. – Люблин, 2003. С. 628–629.
. Самообман – действие в пространстве собственных эмоций, выбора и интеллектуального познания. Самообман порождает хаос правды, которая «становится ослабленной, а затем отрицаемой» 82 82 Худой В. Там. же. С. 629.
. Постправда облегчает рационализацию собственных «удобных» взглядов и оценок.
Следовательно, можно признать, что постправда – это новая форма хорошо известной общественной лжи, ответ на заказ многочисленных групп людей, которые ищут прежде всего подтверждение собственным эмоциям в восприятии мира. Современные Интернет-медиумы, которые могли бы служить познанию, расширяют пропасть между знанием фактическим и медийной картиной действительности, которые могли бы стимулировать готовность к поиску решений во многих сферах общественной жизни, особенно в политике, на деле распространяют постправду через новые медиумы, создают общности, опирающиеся на фальшивые представлении о мире и фобии.
По всей видимости, новое качество постправды заключается в том, что это ложь, будто бы случайно вводящая в заблуждение, но полностью конструирующая новую действительность. Это уже не ложь, служащая безотлагательным целям, достижение которых возвращает к подлинной действительности. Картина мира, данная в постправде, не минует нас и не дает себя опровергнуть, ибо раз поверив в ложь, мы убегаем от познавательного диссонанса. Мы можем, следовательно, понимать постправду в значении организованной лжи, которая, по мнению Ханны Арендт, специфична для тоталитарных систем 83 83 Арендт Х. Правда и политика // Литература в мире. 1985. № 6.
. Теперь она появляется как инструмент политического маркетинга, и это происходит в равной мере как в системах, которые мы признаем системами консолидированной демократии, так и в тех, которые – как нам кажется – всего лишь намереваются пойти этой дорогой. Можно и так рассудить, что растущее пустозвонство в культуре Запада и сопутствующая ей постправда являются не только эффектом усталости бытия, ибо постправда отмечается как в странах, где демократия функционирует 200 лет, так и в странах, возраст демократии в которых не свыше 20 лет. Мы придерживаемся мнения о том, что постправда родственна, прежде всего, новым средствам коммуникации, в последние годы демонстрирующим свою силу творения картин действительности. Практика общественных медиумов показывает, что приспособленная к ним информация начинает жить собственной жизнью, творит / возбуждает долгий ряд комментариев по ее поводу, комментариев к комментариям и т. д. Потом уже трудно найти непосредственный источник – самого первого отправителя, ответственного за содержание сообщения. Такая безответственность, а также призрачная анонимность, порождает у пользователя сети уверенность в том, что можно создавать альтернативные картины мира, даже такие, которые имеют мало общего с действительностью или совсем с ней не связаны.
Рассматривая затронутые вопросы через призму эмпирических исследований, отметим, что большинство (58%) опрошенных нами студентов выразило уверенность в заинтересованности политиков в таком использовании Интернета, при котором происходит поляризация политических взглядов общества. Самый высокий уровень убежденности в таком намерении политиков фиксируют студенты политологии (70%), а самый низкий – студенты журналистики (52%).
Если говорить об оценке верности распространяемой информации о России, то 41% опрошенных молодых людей посчитали, что она не объективна, и только 2% оценили ее как достоверную; «скорее объективной» назвали 29% анкетируемых. Ниже других объективность этой информации оценили студенты отделений безопасности и международных отношений – по 44% опрошенных назвали ее необъективной. В то же время только 16% студентов политологии сочли сообщения Интернет-СМИ о России недостоверными. При этом исследователи попросили студентов оценить объективность медиумов. Оценки распределились следующим образом: объективность медиумов на уровне 100% отметили 3% всей совокупности опрошенных, главенствовала оценка на уровне 50% объективности – так заявили 45% студентов; наивысшую объективность на уровне 100% указывали 9% студентов политологии и 1% – студенты журналистики.
Влияние медийных сообщений на представление молодежи о России ведет к тому, что решительное большинство (56%) опрошенных негативно оценило их в той части, что касается картин России как государства и его граждан. С таким мнением соглашаются 59% студентов политологии, а также 55% студентов журналистики. Изображение России как отрицательное оценили 31% совокупности опрошенных, о недостаточной информации о ней заявили 41% студентов. Влияние изображения России в медиумах на свою оценку показали 47% совокупности опрошенных (студенты политологии – 36%, 58% – студенты управления государством). В анкетах утверждается, что картина России в польском медийном пространстве имеет влияние на ее восприятие гражданами – 68%. В этом более всего убеждены студенты международных отношений – 74%, менее всего студенты политологии – 68%.
Большинство студентов (73%) считает, что отношение к России, а также характер касающейся ее информации изменились под воздействием власти, в результате контроля публичных медиумов, установленного партией «Право и Справедливость». Чаще других такой факт контроля СМИ отмечают студенты национальной безопасности (86%), студенты журналистики гораздо реже (69%). Негативную оценку изображения России в СМИ подметили 31% опрошенных: высший коэффициент зафиксирован среди студентов политологии и управления государства – 34%, самый низкий – у студентов журналистики (26%).
4. Агрессия в языке политики
Статьи, касающиеся вопросов политики, высказывания политиков, но особенно инспирированные ими Интернет-комментарии, в большинстве заведомо агрессивны. Политик может «атаковать» своего оппонента изысканной метафорой, а затем отмежеваться от нее далеко заходящей ее интерпретаций, чтобы даже в заседании суда нельзя было доказать оскорбительных намерений в употреблении метафоры. «Агрессивные действия, в том числе языковые, являются сознательно примененным средством достижения преобладания над адресатом высказывания и склонения его к действиям, ожидаемым отправителем» 84 84 Саткевич Х. Языковые проявления агрессии в медиумах // Й. Бральчык, К. Мосёлэк-Клосинска. Язык в медиумах массовых рейдов. – Варшава, 2000. С. 33.
. Доходит даже до того, что языковая агрессия, нашедшая свое выражение в определенных словах, которая должна пониматься как помеченное в словарях отрицательное отступление от нормы (языковая девиация), начинает восприниматься как свойство желательное, приписываемое энергичному, динамичному, мужественному и предприимчивому человеку, который ее применяет. Персональные выпады нередко сформулированы в приемах, перешагивающих всякие действующие нормы публичного языка, а подчас просто основы хорошего воспитания. Однако озадачивает факт, если политик, будучи политическим оппонентом кого-либо, не изъявляет охоты реванша, потому что став пассивным оппонентом, он будет воспринят не как лицо культурное, мирно настроенное, а скорее как беспомощное и неумелое.
Интервал:
Закладка: