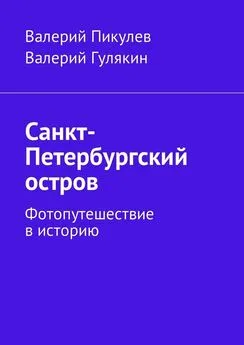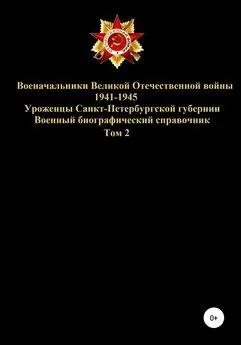В. Храковский - 40 лет Санкт-Петербургской типологической школе
- Название:40 лет Санкт-Петербургской типологической школе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Знак
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-9551-0003-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
В. Храковский - 40 лет Санкт-Петербургской типологической школе краткое содержание
Сборник подготовлен в связи с 40-летием группы структурно-типологического изучения языков Института лингвистических исследований РАН и 95-летием со дня рождения основателя группы — проф. А. А. Холодовича. Статьи, включенные в сборник, посвящены следующим вопросам: теория диатез и залогов, проблемы синтаксиса разноструктурных языков, проблемы грамматической теории. Тематика статей отражает круг научных проблем, находившихся в центре внимания А. А. Холодовича, его учеников, последователей и всех российских и зарубежных лингвистов, связывающих себя с традицией Санкт-Петербургской типологической школы. Статьи подготовлены авторами на основе докладов, прочитанных на международной юбилейной конференции «Категории глагола и структура предложения», которая проходила в Институте лингвистических исследований РАН в мае 2001 г.
40 лет Санкт-Петербургской типологической школе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
60
В качестве уникального, но в этом отношении показательного примера можно привести якутский дериват со значением «обниматься», который образован от рефлексива со значением «обнимать себя»: куус- «обнимать кого-л.» → кууh-ун- «обнимать себя (сложив руки на груди, напр, перед вышестоящим)» (с > А в интервокальном положении) → куус- т-ус- «обнимать друг друга» (рефлексивный суффикс — н- ассимилируется в — т-; — ус -реципрокальный суффикс).
61
К этому случаю примыкает возможное происхождение реципрокального показателя из комитативного, близкого к социативному, см. [Maslova 1999: 161–178]. В этой связи замечу, что по некоторым данным в шапсугском диалекте адыгейского языка глагольный префикс комитатива дэ- мог выступать также как показатель социатива, а в ряде тюркских языков, как и в ряде языков банту, реципрокальный суффикс может иметь как социативное, так и комитативное значение (см. значения (ii) и (iii) в (8а) выше).
Фонетическое (и явно семантическое) сходство реципрока (а иногда и социатива) с показателем комитатива при именах давно обращало на себя внимание. Это отмечено в ряде неродственных языков: юкагирском [Иохельсон 1934: 175], в ряде языков банту, например, нкоре-кига [Taylor 1985: 68], каранго [Marconnés 1931: 191], языке восточный помо (хаканская семья) [McLendon 1975: 84]. Как пишет Р. Диксон [Dixon 1980: 433–434], «There are a few languages in which suffix to a verb has the same, or almost the same, form as the comitative derivational affix „with“ onto a nominal. In Yidiny nominal comitative is — ji — yi (examples were given in 10.4) and a reflexives is Vji-n (see 9.4.1). In Dhuwala/Dhuwal the reflexive-reciprocal verbal suffix is — mi (which takes future inflection (-rri) and the „having“ suffix on nouns is — mi in some dialects, — mini in others. In Thargari and Yinggarda both reciprocal suffix to verbs and comitative suffix to nouns have the form — parri. Interestingly, in Rembarmga verbal reflexive-reciprocal is — tto, identical to the privative suffix („whithout“ on nominals). The significance of these correspondences is not at present understood; indeed, they may be quite accidental». См. также [Недялков 1991: 301–302].
62
В айнском языке аппликатив обозначает некаузативную транзитивацию исходных глаголов с различными изменениями значения, в редких случаях с комитативным значением; ср. ko-onnepa «стареть вместе с кем-л.». В айнском немало социативов, у которых соотносительные формы аппликатива или отсутствуют, или не соотносятся с ними по смыслу. Таким образом, в отличие от адыгейского социатива здесь произошло слияние показателей аппликатива и реципрока и их грамматикализация.
63
В этой связи можно отметить употребление в средне- и ранненовоанглийском периоде наречия together в значении «друг друга»; ср.: Sir, we have known together in Orleans (Shakespeare, Cymbeline, I, iv, 38) букв. «Сэр, мы знали вместе (= друг друга) в Орлеане» (цит. по [Potter 1953: 253]).
64
Аналогичная полисемия наблюдается и в других языках, например, в австралийском языке дйяпу у суффикса — mi- [Morphy 1983: 76–77].
65
19 — В таблице опущен ряд значений, например, (не)предрасположеннности к действию типа мне не работается, логофорическое типа литовского Jis sakė-si ateisiąs «Он сказал, что придет» и др.
66
20 — Дериваты этого типа в некоторых языках сохраняются лучше, чем дериваты с собственно-рефлексивным значением, что связано с сохранением транзитивности у первых и интранзитивностью вторых. Интранзитивация ведет к развитию полисемии и ослаблению продуктивности собственно-рефлексивного значения. У первых же полисемия, как правило, не развивается. В этой связи показательно, что в литовском языке 290 собственно-рефлексивных глаголов типа ра- si-karti «повеситься» и более 1000 транзитивных рефлексивов типа посессивно-рефлексивного su- si-laužyti ranką «сломать себе руку» и бенефактивно-рефлексивного nu- si-pirkti knygą. «купить себе книгу» [Geniušienė 1987:73].
67
См., например, [Faltz 1977: 269; Derbyshire 1979: 62; LaPolla 2000:288].
68
См., например, [Lyons 1968: 373–374; Faltz 1977: 14; Kemmer 1993:1–4; Dixon, Aikhenvald 2000:11–12; Kazenin 2001: 916–991].
69
Сказанное относится также к русскому себя, латышскому sevi и литовскому save с тем же значением, в отличие от ареально близкого польского аналога siebie, см. [Ureland 1977: 312–313]. Близкая ситуация существует в нидерландском языке, где основным показателем реципрокальности является местоимение elkaar «друг друга»; ср. elkaar kussen «целоваться», elkaar omarmen «обниматься», а рефлексивное местоимение zich, заменяемое, как и в немецком языке (откуда оно и заимствовано), в 1-м и 2-м лицах личными местоимениями (ons, je и т. д.), не имеет реципрокального значения (оно употребляется в рефлексивном значении только после предлогов). Рефлексивное значение передается местоимением zichzelf (ср. нем. sich selbst и англ. himself); ср. Oscar haat zichzelf«Оскар ненавидит себя», но не *Oscar haat zich[Reuland 1999:14–15]. Тем не менее, zich употребляется в некоторых медиальных значениях, например, в автокаузативном ( zichwerpen «бросаться») и антикаузативном ( zichopenen «открываться»). В рефлексивном значении местоимение zich употребляется без zelf после предлогов; ср. Jan trok een wagen achter zich aan«Jan pulled a wagon behind him» [Faltz 1977: 202]. О своеобразии нидерландского рефлексивного местоимения см. также [Faltz 1977: 50–51,52,122–124,129-130].
70
Попутно отмечу, что в тюркских языках наблюдается ослабление продуктивности реципрокального суффикса в направлении с востока на запад. Так этот суффикс очень продуктивен в якутском, тувинском, киргизском и непродуктивен в карачаево-балкарском и турецком.
71
В литовском реципроки с медиальным показателем — s/si-, как и собственно рефлексивы, охватывают преимущественно глаголы бытовой лексики; новые реципроки от глаголов «литературной» лексики со значениями типа «обвинять», «подозревать», «интересовать», «наблюдать» фактически не образуются.
72
26 — Фальц характеризует английский способ детранзитивации как стратегию медиальную, отмечая как интересный факт то, что круг значений у английских медиальных глаголов и русских глаголов на — ся в значительной мере пересекаются, хотя и не совпадают в точности [Faltz 1977:12].
73
Приводимые ниже примеры из немецкого, польского, французского и болгарского языков без указания источника взяты из находящихся в печати статей следующих авторов соответственно: [Wiemer & Nedjalkov; Wiemer; Guentchéva & Rivière; Penchev].
74
К этой группе относятся прежде всего глаголы, обозначающие действия, которые субъект чаще выполняет над собой, чем над кем-либо другим; см. [Князев, Недялков 1985:21].
75
Совместное их рассмотрение находим, в частности, в [Geniu-Siene 1987: 76–77,91,186,238–243,302—307].
76
Замечу в этой связи, что в целом ряде языков реципроки образуются только от транзитивов. Такова, например, ситуация в языках русском (дериваты с — ся / -сь образуются, как правило, только от транзитивов), тауя (Новая Гвинея) и мартутхунира (австралийская семья); см. соответственно [MacDonald 1990: 205] и [Dench 1995: 154].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: