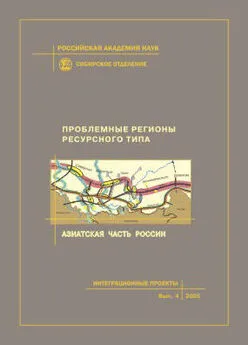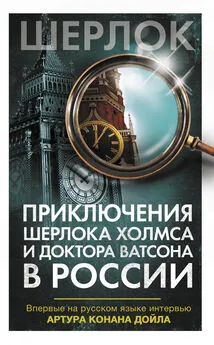Коллектив авторов - Проблемные регионы ресурсного типа. Азиатская часть России
- Название:Проблемные регионы ресурсного типа. Азиатская часть России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «СО РАН»
- Год:2005
- Город:Новосибирск
- ISBN:5-7692-0669-1, 5-7692-0771-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Проблемные регионы ресурсного типа. Азиатская часть России краткое содержание
Монография подготовлена сотрудниками научных коллективов Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Владивостока, Хабаровска, Улан-Удэ, Москвы. Она предназначена для экономистов, географов, работников администраций регионов и министерств, работающих в области прогнозирования территориального развития.
Проблемные регионы ресурсного типа. Азиатская часть России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Еще через 10 лет началась эпоха скоропалительных реформ. На демографический потенциал Сибири и Дальнего Востока они оказали глубокое разрушительное воздействие. Процесс роста численности населения в азиатской части страны, сохраняющийся более 300 лет, обратился вспять. Быстрее всего сокращение населения происходит в дальневосточном регионе, т. е. там, где население труднее всего приживалось и увеличивалось во все предыдущие годы. Может быть, это явление и не вызывало бы опасения и тревог, если бы оно не совпадало по времени и месту с резкой миграционной активностью жителей северо-восточных провинций Китая. Некоторые из современных оценок демографической ситуации в этом регионе России имеют много общего (прежде всего в оценке тенденций) с прогнозами 100-летней давности. Отмечается большая вероятность, чуть ли не роковая предопределенность и неизбежность утраты дальневосточных владений страны. Это сходство настолько близкое, что даже терминология не отличается от использовавшейся более столетия назад. «Желтая опасность, желтая угроза, желтая экспансия, желтая рабочая сила, желтое засилье» – лексикон досоветских дальневосточных администраторов, которым они оперировали, взывая к высшей государственной иерархии о немедленной помощи. А столичная власть со спасительной помощью, как и сегодняшняя, не спешила, поскольку не знала, что делать и не находила средств для защиты дальневосточной окраины от, казалось, неумолимо надвигавшейся катастрофы. Исторические параллели, конечно, – не директивные указания, как следует решать сложные проблемы современности. Но они, бесспорно, поучительны для поиска оптимальных практических решений актуальных вопросов.
3.2. Первые попытки государственного регулирования состава населения Дальнего Востока
В 1887 г. численность населения российского Дальнего Востока – Амурского генерал-губернаторства, в состав которого входили Амурская область, Приморский край и Владивостокское губернаторство – определялась в 161,5 тыс. чел. За вычетом примерно 30,8 тыс. чел. так называемых инородцев, обитавших преимущественно в северных округах генерал-губернаторства, численность населения на территориях, сопредельных с Китаем (Маньчжурией), оценивалась в 130,8 тыс. чел.
Крайне низкая, если не сказать ничтожная плотность населения Дальнего Востока в сравнении с центральными, подстоличными районами России, откуда происходили и назначались региональные администраторы, была их постоянной «головной болью». Еще более забот добавляла удручающая картина на срезе национального состава населения. Из 130,8 тыс. чел. более или менее постоянных жителей генерал-губернаторства 36 тыс. были подданными сопредельных государств, в том числе 27,5 тыс. – Китая и 8,5 тыс. – Кореи [Верноподданнейший отчет…, 1887, с. 7]. Иначе говоря, более 27,5 % оседлого населения составляли иностранцы. Выходцы из Китая превышали пятую часть населения дальневосточных владений Российской империи. Весьма внушительная абсолютная и не менее впечатляющая относительная численность китайцев и корейцев в сопоставлении с русскими квалифицировалась как серьезная реальная, а в грядущем – еще более страшная угроза принадлежности далекой восточной окраины к Российской империи.
Граничащая с паническими настроениями неуверенность в прочности российских позиций на Дальнем Востоке отягощалась опасностью, исходящей от существовавшего на территории Амурской области анклава китайской юрисдикции. В соответствии с Айгунским договором, на российской территории существовала маньчжуро-китайская национальная автономия под протекторатом китайских властей. Численность населения этой автономии оценивалась в 14–15 тыс. чел., но фактическое число ее обитателей являлось тайной для русских властей. Секретом не было лишь то, что экстерриториальность китайско-маньчжурской автономии использовалась для организации контрабанды, в качестве пристанища следовавших в тайгу на золотые прииски спиртоносов и торговцев «китайским шаром». Борьба с контрабандой, явлением повсеместным для приграничных территорий, велась с переменным успехом и была делом обычным, повседневным. Непривычным, оскорбительным и унизительным, умаляющим достоинство считалось присутствие китайской юрисдикции на территории Российской империи. К тому же богатое на предвиденье бед, несчастий, угроз и опасностей воображение регионального генералитета российской бюрократии рисовало вероятность использования китайско-маньчжурского локалитета в Амурской области в качестве своего рода плацдарма будущей государственно-политической экспансии Китая на российские дальневосточные пространства.
Интенсивное и широкое заселение далекой окраины русскими могло лишь в очень малой степени смягчить, сгладить сложившуюся ситуацию. Возможность сбалансировать, уравновесить российскую чашу демографических весов с китайской – посредством переселения русских на Дальний Восток – практически исключалась. Противостоять потенциалу почти 400-миллионного демографического массива Китая русским переселенческим движением, даже высокоорганизованным и предельно массовым, было нереально по объективным причинам. Процесс переселения в Приамурье складывался медленно и трудно, недостатки его организации и стимулирования усугублялись громадными и практически бездорожными расстояниями от Европейской России – основного источника «накачивания» демографического потенциала дальневосточной окраины. Железнодорожная сеть России обрывалась на Урале, за семь тысяч верст от Приамурья и Приморья. Переселенческий процесс не поддавался трансформации в непрерывный и нарастающий приток.
Возрастной состав переселенцев, которые небольшими, спорадическими дозами увеличивали численность русского населения, отличался весьма невысоким потенциалом трудовых ресурсов, рабочей силы. Как правило, многодетные и часто двух-трехпоколенные семьи крестьянских переселенцев являлись слабым, малоактивным и медленно действующим средством нейтрализации так называемой «желтой опасности» и, соответственно, замещения «желтой рабочей силы», надвигавшейся на Приамурье из Китая и Кореи. Так, в 1888 г. в Амурскую область прибыло 117 семей крестьянских переселенцев в составе 1391 чел., т. е. в среднем семья состояла примерно из 11 членов, из которых в активном трудовом возрасте находилось 2–3, не более четырех человек [Обзор…, 1889, с. 10]. По весьма меткому выражению одного из чиновников, «ртов больше, чем рабочих рук». В 1890 г. суммарный – естественный и механический – прирост населения Амурской области составил 2000 чел., в том числе 146 членов крестьянских семей и 350 переселенцев из других сословий [Обзор…, 1891, с. 1]. За два года население области увеличилось примерно на 7,4 тыс. чел., из которых почти 6 тыс. приходилось на приисковых сезонных рабочих. Итог переселенческих усилий был весьма скромным, чтобы не сказать неутешительным, очень далеким от создания прочного русского демографического щита против стихийной экспансии «желтой опасности».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: