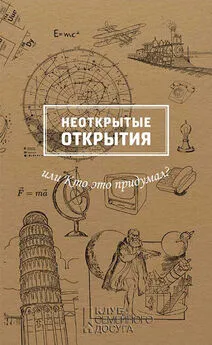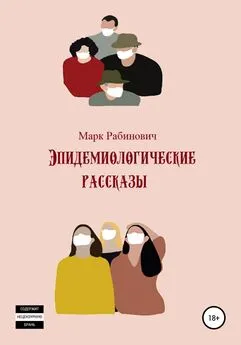Вадим Рабинович - Алхимия
- Название:Алхимия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Изд-во Ивана Лимбаха
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-180-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Рабинович - Алхимия краткое содержание
Основой настоящего издания является переработанное воспроизведение книги Вадима Рабиновича «Алхимия как феномен средневековой культуры», вышедшей в издательстве «Наука» в 1979 году. Ее замысел — реконструировать образ средневековой алхимии в ее еретическом, взрывном противостоянии каноническому средневековью. Разнородный характер этого удивительного явления обязывает исследовать его во всех связях с иными сферами интеллектуальной жизни эпохи. При этом неизбежно проступают черты радикальных исторических преобразований средневековой культуры в ее алхимическом фокусе на пути к культуре Нового времени — науке, искусству, литературе. Книга не устарела и по сей день. В данном издании она существенно обновлена и заново проиллюстрирована. В ней появились новые разделы: «Сыны доктрины» — продолжение алхимических штудий автора и «Под знаком Уробороса» — цензурная история первого издания.
Предназначается всем, кого интересует история гуманитарной мысли.
Алхимия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
130
Между тем Демокрит упоминается часто; но не Абдерский (V–IV вв. до н. э.), а Псевдо-Демокрит (VI в.) (Демокрит. — Лурье, 1970, с. 471–473), христиански переосмысленный. Атом Демокрита отождествлен с логосом, одним из синонимов Иисуса Христа. Тогда одушевленный, хотя и бестелесный, атом оказывается личностно (а стало быть, и телесно) значимым, поселившись в «шарообразном огне» и ставши владыкою мира. В этом слышится александрийское воспоминание — сближение «христианизированного» атома с неоплатоническим Единым. Да и сама идея вечности атома коррелируется с одной из ересей о вечности Иисуса (в отличие от бренности Христа — разрушимости вещи).
131
Речь идет здесь лишь о демокритовском атомизме, действительно чуждом алхимии. Кроме того, признание неизменности атомов «простых тел» исключает возможность трансмутации. Но если говорить о восприятии средневековыми алхимиками «химического» индивида, в котором автономизированы свойства, мы должны согласиться с тем, что такой «атомизм» (скорее — элементаризм) близок к монадологическому (сравните с монадами Бруно).
132
12Эту ситуацию остроумно комментирует Васко Ронки (Ronchi, 1952, с. 33–58).
133
Этот тезис станет в определенном смысле опорным в учении об алхимическом ртутно-серном элементаризме.
134
Настойчивое отвержение атомистической идеи — веское доказательство ее вторжения в алхимический мир, но только исподволь, с черного хода — под видом «биологически живых», индивидуальных веществ.
135
Впрочем, еще Константин Африканский (XI в.), по-видимому цитируя одного арабского философа-медика, скажет, что элемент — это «simplex et minima compos id corporis particula» («простая и минимальная частица сложного тела») (Зубов, 1965, с. 68).
136
атома принципиально вносит в мироустроение произвол разночтений, каприз случая.
В Лимбе можно найти и Аристотеля, и Цицерона, и Птолемея, а также таджика Авиценну и Аверроэса — мавра из Испании:
Там были люди с важностью чела,
С неторопливым и спокойным взглядом,
Их речь звучна и медленна была.
(112–114).
137
Не потому ли Демокрит — отец алхимиков?!
138
wФигура Р. Бэкона наиболее методически и методологически подходяща, ибо в одном лице живет францисканец и алхимик, послушник и еретик, являя их амбивалентную исторически уникальную взаимотрансформацию — трансмутацию.
139
Пересказывая эту притчу, не могу сослаться на источник. Может быть, этого спора вовсе и не было. Может быть, это легенда. Пусть. Но ведь легенда, по Саллюстию, «это то, чего никогда не было, но зато всегда есть» (Sallustii, 1881, с. 33). Достоверность универсального вымысла — ложность единичного факта.
140
Конструктивизм, однако, после опыта, то есть после созерцательного наблюдения, но такого опыта, который теоретически осмыслен.
141
Этой мыслью я обязан В. С. Библеру.
142
иной исторический итог — на этот раз не в природознании, а в человекознании: modus operandi и modus cogitandi слились в ренессансный modus vivendi истового средневекового послушника. Но это уже совсем другая история.
143
Художник как одно из определений алхимика в нашем контексте неизбежен и, в силу особенности предмета, намекает на новаторство, которое связывает с этой деятельностью сознание Нового времени.
144
4,1Это уже совсем другие люди: месмеристы, спириты и прочее.
145
Тэхнэ в контексте средневековья и есть нерасторжимый сплав артистизма и ремесла. Лишь «серийное» ремесло — без «бога». Алхимический ремесленный артистизм воспроизводит глубоко личное ремесло средневековья, но таким образом воспроизводит, что наглядно вскрывает его строение, включив еще и Слово в качестве материала. В собственно ремесле Слово — за текстом, и потому должно быть примыслено.
146
И все-таки сокровенное остается.
147
Каждую неудачу трансмутации алхимик старается объяснить каким-нибудь внешним неблагоприятствованием: бедствиями войны, плохой погодой, северным ветром, задувшим свечу, высвечивающую искомую истину.
148
И ему тоже. Но лишь в той мере, в какой он подлинно средневековый мастер.
149
4Алхимические фантазии раздвигали горизонты видения, обосновывали бесконечные возможности познания. Легковерность — утрата критериев возможного, зато подготовка нравственной презумпции науки Нового времени — о всесилии новой науки. (Если, конечно, оторвать алхимически перекошенное изображение-карикатуру от пристойного лика природоведа канонического средневековья.) Алхимия — плодоноснейшее поле несбыточного и невообразимого. Парацельс: «То, что считают невозможным, непонятным, невероятным или вообще невообразимым, станет поражающе верным» (с. 12). «Восхождение к причинам» — алхимическим началам — псевдокаузально. Зато именно оно вело — и привело! — к элементу-частице. Натуралистическое правдоподобие неправдоподобного питало сенсуалистический ум человека Возрождения, но отбивало охоту наблюдать. Алхимик поверхностно, но наблюдает. Это сравнительное — не прямое! — наблюдение. Вот почему вещество описывается приблизительно, зато включается в алхимическую картину мира, что обещает раскрытие сущности этого вещества как части мироздания. Аналогизирование — это также и средство мнимого объяснения. В алхимии оно скорее эвристично, нежели мнимо объяснительно. Алхимик остро чувствует не только тождество в аналогии, но и различия, как бы предвосхищая ум грядущего Леонардо.
150
Что, впрочем, не мешало догматическому устроению герметических сообществ.
151
Атомизм как неучтожимость и неизменяемость простого тела, индивидуального тела. Но это сделало бы идею трансмутации принципиально невозможной. Тогда следовало бы отказаться от алхимических элементов-принципов как кирпичей мироздания и признать этими кирпичами реальные металлы, например; признать их простыми телами-элементами в современном смысле. К этому, впрочем, и шло, только очень медленно — тысячу лет шло. Тогда атомизм — в некотором роде логическое будущее алхимии.
152
А. М. Турков, комментируя «Царицу мух», свидетельствует следующую запись поэта, сохранившуюся в его бумагах: «Знаменитый Агриппа Ноттенгеймский царицей мух называет какую-то таинственную муху величиной с крупного шмеля, которая «любит садиться на водяное растение, называемое Fluteau plantagine, и с помощью, которой индусы якобы отыскивают клады на своей родине».
153
«В Штутгарте состоялся второй международный конгресс… алхимиков. 140 представителей «черной магии» из западноевропейских стран и США собрались на горе Киннесберг, чтобы, как заявил представитель конгресса, «рассеять вульгарное представление об алхимии и обосновать ее научный характер». Среди тем «научных» докладов участников конгресса — «влияние зеленой звезды», «крапива в поле напряженности между микро- и макрокосмосом» и другие столь же «актуальные» проблемы» (из газетных сообщений).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: