Анатолий Ахутин - История принципов физического эксперимента от античности до XVII века
- Название:История принципов физического эксперимента от античности до XVII века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1976
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Ахутин - История принципов физического эксперимента от античности до XVII века краткое содержание
Оглавление
Предисловие
Введение
Проблема эксперимента в античной науке
Научно-теоретическое мышление античности и вопрос об эксперименте
Идея эксперимента в пифагорейской науке
Эксперимент и математическая теория
«Эйдос» и «фюсис». Превращения идеальной формы
Физика и механический эксперимент эпохи эллинизма
Основное противоречие аристотелевой физики и проблема эксперимента
Теоретическая механика: идеализация и мысленный эксперимент
«Динамическая статика» перипатетиков
Экспериментальная статика Архимеда
Практика и научный эксперимент. Экспериментальный смысл практической механики
Эксперимент и теория в эпоху европейского средневековья
Мышление в средневековой культуре
Понятие предмета в позднесхоластической науке
Основная проблема позднесхоластической натур-философии
«Калькуляторы»
Теория «конфигураций качеств» как Метод Мысленного экспериментирования
«Scientia experimentalis»
Открытие эксперимента?
Эмпиризм, методология физического объяснения и роль математики
Метафизика света и оптическая физика
Галилей. Принципы эксперимента в новой (классической) физике
Введение в проблему Авторитет, факт, теория
Факт против авторитета
Наблюдение и исследование
Теория против авторитета факта
Эксперимент и мышление
Сократовская миссия эксперимента
Эксперимент как формирование нового предмета
Механика и математика
Математика и эксперимент
Идеализация и реальный эксперимент
Математическая абстракция или физическая сущность?
Примечания
История принципов физического эксперимента от античности до XVII века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Разработка и развитие механических методов решения математических (геометрических, тригонометрических, измерительных) задач потому имеет существенное значение с точки зрения нашей проблемы, что благодаря этому многие механические процессы и понятие механического движения вообще находили себе соответствие в геометрических и арифметических соотношениях. В античную эпоху только один прием непосредственно привел к созданию механической теории. Мы имеем в виду статику Архимеда, о которой речь пойдет дальше. Но в XVII в. именно эта связь механики с геометрией позволила сделать решительный шаг в развитии новой теории.
«Эйдос» и «Фюсис». Превращения идеальной формы
Прежде чем переходить к анализу тех изменений, которым подверглись принципы теоретического наблюдения (эксперимента) у Аристотеля, скажем несколько слов об атомистах.
Мы можем ограничиться традиционным, хорошо подкрепленным доксографическими свидетельствами, представлением о натурфилософии атомистов. В таком случае мы получим принципиальную возможность объяснить отдельные изменчивые феномены, но не будем иметь никакого теоретически-конкретного понятия этих феноменов. Атомисты постулируют движение как элемент, необходимый для понимания «фюсиса», «однако, почему оно есть и какое именно, они этого не говорят и не указывают причину, если оно происходит вот таким-то образом» 10е . Мы можем, далее, рискнуть воспроизвести ход логического анализа, приведшего к разработке так называемого математического атомизма, в котором и само понятие атома, и необходимо связанные с ним понятия пространства, времени и движения выступают с теоретической определенностью, как элементы некоторой физико-геометрической конструкции. Этот ход мысли, может быть, менее подтвержден доксографически, но принудительность логики имеет по меньшей мере ту же силу, что и принудительность «факта». Однако и на этом уровне, в теории дискретного пространства и времени, в «кинематографическом» представлении движения возникает гораздо больше проблем, чем решений. Попытка мысленно построить движение из сочетания атомов «чистого покоя» с «пустотой» «чистого движения» является решением в той мере, в какой любая проблема решается посредством обращения ее в постулат. «...И то, что в парадоксе Зенона о летящей стреле представляется как нечто заведомо невозможное и дискредитирующее саму идею движения — именно неподвижность стрелы в каждый отдельный момент, с точки зрения атомиста,— простое констатирование факта» 10Т . Факта, разумеется, совершенно идеального, мысленного.
Существенным было то, что в процессе понимания движения, которое при этом «успокаивается», распадаясь на дискретный ряд неподвижных состояний, само понятие покоя как бы «двинулось», развилось. Понятие атома, доведенное до логического конца, т. е. взятое не просто как натурфилософская гипотеза, а как результат всей теоретической и мысленно экспериментирующей работы, обнаруживает свои более глубокие измерения. Атом раскрывается не просто как' неуничтожимый элемент бытия или неуничтожимая форма — это прежде всего атом движения. Покой, понятый как «атом движения», как «здесь-теперь» состояние,— это покой, понятый как момент движения, как тождество результата (предшествующего) и начала (последующего) движения.
Более того, поскольку форма атома должна быть в состоянии участвовать в построении всех возможных форм, как возникавших когда-либо, так и возникающих, поскольку, следовательно, она может быть получена только из полного и законченного временного процесса 108 , атомы не только суть всеобщие «начала», но и окончательный «результат»: из них все возникает и в них все г разрешается 109 . Соответственно этому, мы можем расщепить движение на сумму составляющих его «атомов покоя», только после того как движение завершится. Таким образом, «атомы покоя» суть начала всего процесса движения и вместе с тем результаты уже завершенного движения. Т. е. это то, что определяет возможность движения, и то, что является результатом осуществившегося движения.
Эту экстраполяцию атомизма мы предприняли, чтобы показать, как могла работать конструктивная, мысленно-экспериментирующая теория атомистов, сколь богато понятие атома, отнюдь не сводящееся к тощему натурфилософскому представлению, логическими возможностями и проблемами, и каким образом атомизм внутри своего собственного мышления воспроизводит и производит проблемы, которые в явном виде существовали и выдвигались умонаправлениями, считающимися с доксографической точки зрения решительно противоположными атомизму.
Совмещение начала и результата — одно из основных определений идеальной формы как первоосновы «эйдетического мышления» вообще 110 . Именно в конечной, результирующей форме вещи обнаруживается ее начало, сущность, причем сам процесс изготовления или возникновения не имеет значения, более того, только зная результат, мы можем пролить также некоторый свет и на процесс возникновения, потому что,— говорит Аристотель,— «ведь возникновение происходит ради сущности вещи, а не сущность ради возникновения» 1И .
Мы видели, что первоначальное понятие «формы» строилось как понятие художественной формы, идеально-уравновешенной формы хорошо изготовленного произведения, в котором исчезло и успокоилось все предшествующее движение, но которое само есть явно выраженная совокупность всех возможных движений данного тела. Человек, государство и космос понимались как такого рода художественные произведения 112 , противостоящие небытию беспредельного хаоса, варварства и смерти. В таком противостоянии исчезал основной предмет понимания — «фюсис». Космический разум, начертанный в идеальной структуре движения небесных тел и замкнутый в теоретическом самосозерцании, оставлял в потемках неопределенную сферу рождений, роста, изменения, движения, разложения и гибели. Если в результате-произведении мы видим только чистое самовоспроизведение начала, то все, что происходило в самом процессе созидания, нас не может интересовать, оно и остается в темноте, не поддающейся осознанию. Проблема движения становится в этом случае и «камнем преткновения» и «пробным камнем» для понятийных конструкций, заставлявших мыслителей изменять и развивать понятие «идеальной формы», остававшееся краеугольным понятием всего античного мышления. Знаменитое место из «Физики» Аристотеля гласит: «Так как природа есть начало движения и изменения, а предметом нашего исследования является природа, то нельзя оставлять невыясненным, что такое движение: ведь незнание движения необходимо влечет за собой незнание природы» 113 . Именно движение 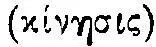 , понимаемое первоначально синонимично с изменением
, понимаемое первоначально синонимично с изменением 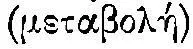 , в самом широком смысле есть для Аристотеля тот предмет и тот инструмент, с помощью которого он подвергает оценке и критике существовавшие до него физические учения и преобразует всю методологию эйдетического мышления.
, в самом широком смысле есть для Аристотеля тот предмет и тот инструмент, с помощью которого он подвергает оценке и критике существовавшие до него физические учения и преобразует всю методологию эйдетического мышления.
Интервал:
Закладка:










