Анатолий Ахутин - История принципов физического эксперимента от античности до XVII века
- Название:История принципов физического эксперимента от античности до XVII века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1976
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Ахутин - История принципов физического эксперимента от античности до XVII века краткое содержание
Оглавление
Предисловие
Введение
Проблема эксперимента в античной науке
Научно-теоретическое мышление античности и вопрос об эксперименте
Идея эксперимента в пифагорейской науке
Эксперимент и математическая теория
«Эйдос» и «фюсис». Превращения идеальной формы
Физика и механический эксперимент эпохи эллинизма
Основное противоречие аристотелевой физики и проблема эксперимента
Теоретическая механика: идеализация и мысленный эксперимент
«Динамическая статика» перипатетиков
Экспериментальная статика Архимеда
Практика и научный эксперимент. Экспериментальный смысл практической механики
Эксперимент и теория в эпоху европейского средневековья
Мышление в средневековой культуре
Понятие предмета в позднесхоластической науке
Основная проблема позднесхоластической натур-философии
«Калькуляторы»
Теория «конфигураций качеств» как Метод Мысленного экспериментирования
«Scientia experimentalis»
Открытие эксперимента?
Эмпиризм, методология физического объяснения и роль математики
Метафизика света и оптическая физика
Галилей. Принципы эксперимента в новой (классической) физике
Введение в проблему Авторитет, факт, теория
Факт против авторитета
Наблюдение и исследование
Теория против авторитета факта
Эксперимент и мышление
Сократовская миссия эксперимента
Эксперимент как формирование нового предмета
Механика и математика
Математика и эксперимент
Идеализация и реальный эксперимент
Математическая абстракция или физическая сущность?
Примечания
История принципов физического эксперимента от античности до XVII века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Если первое начало механики позволяет изучать движение по его «активным возможностям», т. е. рассматривать структуру абсолютно законченного движения (структуру естественных мест) как потенциально достижимую (при насильственном удалении тела со своего места), то последнее начало служит основанием для исследования движения по его «пассивным возможностям». Здесь нашей целью должно быть обнаружение такой всеобщей (идеальной) формы, которая допускала бы перевод параметров ее геометрической структуры в определенные параметры возможного движения, причем так, чтобы двигатель и движимое не были бы разными сущностями (иначе движение определялось бы не только формой, но и скрытым двигателем). Эти две возможности, «активная» и «пассивная», составляют две важнейшие области механики: динамику и статику. Что касается динамики, то и тут Аристотель попытался дать известное полуэмпирическое определение движения, согласно которому отношение скоростей движения равных грузов пропорционально отношению приложенных сил, иначе говоря мерой двигательной силы была выбрана скорость 18 G . Это вполне естественно для мира Аристотеля, в котором движение немыслимо без сопротивляющейся среды. В этой связи можно упомянуть еще кинематические фрагменты — теорию свободного падения Аристотеля 187 (мысленные эксперименты с падением становятся в дальнейшем вплоть до времен Галилея чуть ли не центральным пунктом критики Аристотеля) и, наконец, самую шаткую и, можно сказать, роковую для Аристотеля теорию движения брошенного тела, так называемую теорию «антиперистасиса» 188 .
Именно статика удовлетворяла всем требованиям, которые можно было бы предъявить, чтобы с позиции Аристотеля теоретически изучать движение. Изучение движения в возможности, в состоянии перехода от покоя в движение, в состоянии безразличия между покоем и движением — это не что иное, как изучение состояния равновесия. Здесь чистая структура формы определяет все возможные движения, так что геометрические параметры свободно превращаются в кинематические, двигатель в сущности тождествен движимому, так что они свободно меняются ролями, а в состоянии равновесия нет ни двигателя, ни движимого.
Логическое обоснование статики — наиболее существенный результат Аристотеля в разработке теории движения. Мы увидим в следующей главе, как на базе статики разрабатывается уже в аристотелевской школе теоретическое экспериментирование.
Теоретическое наследие Аристотеля обнаруживает поистине необъятные богатства даже в аспекте нашей, сравнительно узкой темы.
Система аристотелевских понятий логики научного исследования настолько глубоко определила развитие научной мысли на протяжении почти двух тысяч лет, разработка методов науки Нового времени находится в такой тесной — явной и неявной, негативной и позитивной — связи с нею, наконец, она оказывается столь продуктивной для понимания логики и современной научной работы, что значение ее трудно переоценить. В частности, мы находим здесь одно из немногих в истории науки явных свидетельств того, в какой существенной связи находятся философское мышление, теоретическое построение и собственно-позитивно-научное исследование. Мы видим, далее, что проблема эксперимента имеет гораздо более глубокие корни, чем мы привыкли думать, что она обретает полный смысл, только если ее рассматривать в контексте определенной формы теоретического мышления в целом, вместе с его философским обоснованием.
Глава вторая
Физика и механический эксперимент эпохи эллинизма
Основное противоречие аристотелевой физики и проблема эксперимента
Мы могли уже заметить, что по мере того, как определенная система «эйдетического» мышления доходила в своем понимании «фюсиса» до фундаментальных (универсальных, всеобщих) положений (о том, что есть «природа» поистине), она обнаруживала свою собственную противоречивость в том, что «вид» этой истины оказывался в решительном противоречии с видом чувственно наблюдаемой природы. Поскольку же истинный вид был видом бытия самого по себе, то чувственный приходилось объявлять несуществующим 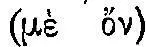 .
.
Логической формой этого противоречия была проблема движения, а конкретный способ решения проблемы движения представлял собой также и определенное изменение в самом механизме движения логики.
Если определение «ясного, точного и истинного» состоит в том, что оно есть единая и устойчивая форма, то возникает вопрос: «Можем ли мы вообще получить что-либо устойчивое относительно того, что не содержит в себе никакой устойчивости?» 1 Платона занимает здесь логическая сторона проблемы, но уже Зенон сформулировал ее как физическую.
Позитивный ответ на этот вопрос возможен только в том случае, если в теоретическом понятии удается совместить моменты «устойчивости» (понятийности) и «неустойчивости» (предметности) . Решение этой проблемы позволяет, по мысли Аристотеля, избегнуть платоновского раскола на истинный мир идей и мнимый мир вещей; задача самого Аристотеля — найти в строении понятия то, что связывает его с вещами и делает их местом его существования, а тем самым и показать, каким образом сами вещи, не утрачивая своего существования, оказываются понятными.
То единственное, благодаря чему некий предмет вообще может быть выделен в качестве самостоятельного индивида, «суть бытия» 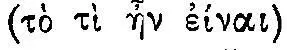 предмета, у Аристотеля традиционно связано с понятием формы. Но, будучи средоточием самого бытия, форма должна быть понята в некоем тождестве с «материей» данного предмета: дерево может принимать самые разнообразные «искусственные» формы, но его «естественной» формой является растение-дерево, поэтому именно такая древесная форма будет иметь отношение к сути его бытия 2 . Раз «для каждой формы иная материя» 3 , сущности качественно разнообразны, а исследование формы,, поскольку она внутренне присуща определенной материи, и есть, согласно Аристотелю, предмет физики 4. Но именно это «поскольку» перемещает центр исследования на проблему движения, так как ни в форме, ни в материи самих по себе (как отдельные они существуют только в понятии) нет объединяющего их начала. Оно выступает лишь в самом процессе их объединения. Сущностью природы оказывается движение 5 . Но сущностью понятия остается форма.
предмета, у Аристотеля традиционно связано с понятием формы. Но, будучи средоточием самого бытия, форма должна быть понята в некоем тождестве с «материей» данного предмета: дерево может принимать самые разнообразные «искусственные» формы, но его «естественной» формой является растение-дерево, поэтому именно такая древесная форма будет иметь отношение к сути его бытия 2 . Раз «для каждой формы иная материя» 3 , сущности качественно разнообразны, а исследование формы,, поскольку она внутренне присуща определенной материи, и есть, согласно Аристотелю, предмет физики 4. Но именно это «поскольку» перемещает центр исследования на проблему движения, так как ни в форме, ни в материи самих по себе (как отдельные они существуют только в понятии) нет объединяющего их начала. Оно выступает лишь в самом процессе их объединения. Сущностью природы оказывается движение 5 . Но сущностью понятия остается форма.
Вместо платоновского различения мира совершенных образцов и мира несовершенных подобий Аристотель устанавливает различие двух состояний в одном и том же мире: состояния завершенности, актуальности, цельности (исцеленности) и состояние незавершенности, потенциальности, частичности. Сущность природы, ее целостно-целевая форма должна быть найдена как предмет теоретического созерцания 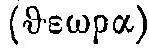 , как единая цель природы, которая должна всегда уже предшествовать всякому процессу, происходящему в природе, и делать его возможным 6 .
, как единая цель природы, которая должна всегда уже предшествовать всякому процессу, происходящему в природе, и делать его возможным 6 .
Интервал:
Закладка:










