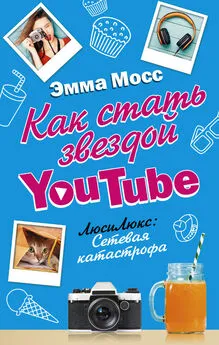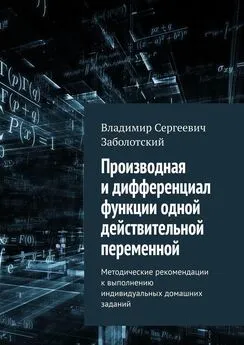Марсель Мосс - Социальные функции священного
- Название:Социальные функции священного
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Евразия
- Год:2000
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марсель Мосс - Социальные функции священного краткое содержание
Социальные функции священного - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда какая-то религия лишается сторонников, для сторонников новой Церкви, бывшие жрецы становятся магами. Таковыми малайские или шамские [526]мусульмане считают раюапд или paja, которые на самом деле были древними жрецами. Ереси ведут к магии: к катарам [527], последователям культов воду [528]и другим относились как к колдунам. Но поскольку для правоверных последователей религии идея магии присуща ложной религии, мы затрагиваем тут новое явление, к подробному рассмотрению которого вернемся позднее. Данный факт нам интересен уже сейчас, потому что здесь мы видим приписывание магических способностей целым коллективам. До сих пор мы наблюдали объединения магов в социальные группы, характеризующиеся лишь смутными призваниями к занятиям магией, тогда как здесь целый народ представляется сектой колдунов. И александрийский царь, и средневековая церковь считали магами всех евреев.
Чужаки как группа были тоже, по сути дела, группой колдунов. Например, для австралийских племен любая естественная смерть, случившаяся в племени, является следствием колдовства, совершенного соседями. На этом же покоится целая система кровной мести. В Новой Гвинее две деревни Тоарипи и Куатапу в районе Порта-Морсби [529], по сведениям Чалмерса [530], только и занимаются тем, что обвиняют друг друга в колдовстве. Рассматриваемые действия являются практически универсальными среди так называемых первобытных народов. В ведическую эпоху в Индии колдуна называли чужаком. Чужак — это тот, кто живет на другой территории, враждебный сосед. С этой точки зрения можно сказать, что магические силы определялись топографически. У нас есть примеры четкого географического определения магии в ассирийском обряде заклинания: «Колдунья, твои чары разрушены, я свободен, колдунья эламская, я свободен; колдунья путинская, я свободен; колдунья сутинская, я свободен; кодунья лулубийская, я свободен; колдунья шаннигалбийская, я свободен» (Tallqvist, Die Assyrische Beschwörungsserie Maqlu, VI, 99-103). Когда встречаются две культуры, занятие магией обычно приписывается менее развитой. Классическим примером служит тот факт, что дасью [531]в Индии, а также финны и лапландцы в Скандинавии издавна обвинялись в занятиях колдовством, соответственно, индийцами и скандинавами. Все племена, обитающие в меланезийских и африканских лесах, имеют репутацию колдовских сообществ в глазах своих более цивилизованных соседей, живущих на равнине и вдоль рек, впадающих в море. Все кочующие племена, живущие среди оседлых народов, считаются колдовскими; в наши дни это цыгане и бродячие касты Индии — торговцы, кожевники, кузнецы. Среди этих чуждых для большинства населения по образу жизни групп выделяются отдельные племена, кланы и семьи, представители которых пользуются славой особо одаренных магической силой.
Случается, впрочем, что отношение к магам возникает не без оснований. Ведь существуют группы, претендующие на реальное обладание некоторой сверхчеловеческой властью над определенными явлениями, которая понимается одними как религиозная, а другими как магическая. Брахманы, выглядевшие в глазах греков, арабов, иезуитов магами, действительно утверждали, что обладают почти божественным всемогуществом. Некоторые сообщества приписывают себе способность вызывать дождь или сдерживать ветер, причем соседние племена верят в это. Так, в племени, обитающем в окрестностях Монт-Гамбьер в Австралии, есть клан повелитель ветров, и он обвиняется соседним племенем боандик [532]в том, что вызывает дождь и ветер по своему усмотрению. Даже лапландцы продавали европейским матросам мешки, наполненные ветром.
Можно высказать общее положение, что все лица, которых считают практикующими магию, уже имеют независимо от их действительных магических способностей определенное положение в обществе прежде, чем быть названными магами. Мы не можем обобщить это предположение, сказав, что любые аномалии в социальном положении приводят к занятиям магией, но считаем, что подобный вывод может оказаться справедливым. Однако мы не хотим, чтобы из приведенных выше фактов заключили, что магами были все чужаки, жрецы, вожди, целители, кузнецы или женщины. Маг может и не принадлежать ни к одной из этих групп. Впрочем, мы обратили внимание на то, что качества мага иногда определяются родом занятий и профессией.
Сказанное выше позволяет утверждать, что индивиды, которых обрекает на занятия магией отношение окружающих к их особому положению, то есть маги, которые не входят в состав особой корпоративной группы, становятся объектом пристального социального внимания, и что социальное чувство по отношению к магам, для которых магия является основным занятием, обладает той же природой, какую имеет вера представителей всех рассматривавшихся выше групп в то, что они обладают магическими способностями. Поскольку эти чувства проистекают прежде всего из их аномального поведения, то, следовательно, маг как таковой имеет социальное положение, определенное как аномальное. Не станем далее останавливаться на негативной стороне определения мага и исследуем теперь его позитивные характеристики и особенности его дара.
Мы уже отмечали некоторые позитивные свойства, определяющие роль мага, тонкое устройство его нервной системы, умение владеть руками и т. д. Магам почти всегда приписывают несколько неординарные знания и навыки. Предельно упрощенная теория магии могла бы, учитывая умственные способности магов и их хитрость, объяснить весь арсенал их магических средств мошенничеством и обманом. Но эти реальные качества, которые мы продолжаем в порядке гипотезы приписывать магу, составляют лишь часть его традиционного образа, где мы видим и другие черты, дающие основания людской вере.
Эти мифические и чудесные способности являются предметом мифов или, скорее, устной традиции, существующей обычно то в форме легенд, то сказок, то в виде сюжетов приключенческой литературы. Эти традиции играют значительную роль в жизни народов всего мира и представляют собой одну из главных частей фольклора. В известном сборнике индийских сказок Сомадевы говорится: «Боги пребывают в состоянии вечного счастья, люди находятся в состоянии постоянных страданий. Положение тех, кто находится между людьми и богами, наиболее приятно благодаря своему разнообразию. Вот почему я собираюсь рассказать тебе историю о жизни видьядхаров, то есть о демонах, а значит и о магах» (Ка£Ьа-5ага-5агг£-5адага, I, 1, 47). Эти сказки и легенды представляют собой не только игру воображения, не просто традиционную пищу для коллективной фантазии. Их постоянное повторение во время долгих бдений поддерживает состояние ожидания и страха, которое может вызвать шок, разогреть воображение и привести к совершению определенных действий. Впрочем, здесь сложно провести границу между вымыслом и подлинным верованием, между сказкой, с одной стороны, и действительной историей и мифом, который по обычаю принимают за правду, — с другой. Все время слушая разговоры о маге, люди в конце концов наяву видят его действия и обращаются к нему за советом. Огромная сила, которой люди наделяют мага, не оставляет у них сомнения в том, что ему совсем не сложно оказать те маленькие услуги, о которых они попросят. Как же можно не верить, что брахман, который сильнее богов, способный сотворить мир, мог бы, при случае, вылечить и заболевшую корову? Если возможности мага безмерно преувеличиваются от рассказа к рассказу, от рассказчика к рассказчику, то это происходит потому, что маг является излюбленным героем народных фантазий — либо по причине страха, либо благодаря интересу к приключениям, предметом которого является магия. В то время как возможности жреца ограничены религиозными установлениями, образ мага формируется независимо от магии. Он состоит из бесконечных «говорят, что...», а магу достаточно обладать некоторым сходством с этим образом. И неудивительно поэтому, что все литературные черты героев романов, посвященных теме колдовства, повторяют типичные характеристики настоящих колдунов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: