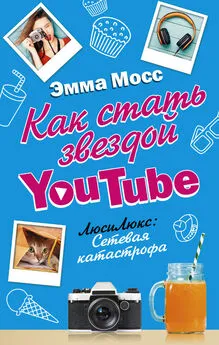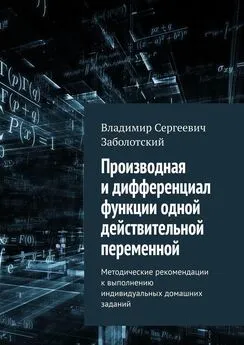Марсель Мосс - Социальные функции священного
- Название:Социальные функции священного
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Евразия
- Год:2000
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марсель Мосс - Социальные функции священного краткое содержание
Социальные функции священного - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тот же подход и те же принципы приводят Сабатье к выводам, почти противоположным тилевскому. Тиль сделал из молитвы важную, но вторичную по отношению к «религии» в целом «манифестацию». Для Сабатье молитва стоит на первом месте. «Молитва, — говорит он, — это религия в действии» [645].
Как будто так нельзя сказать о любом ритуале! Как будто соприкосновение со святыней и любой контакт с божеством не будет таким же общением с Богом! Итак, «внутренний порыв души к внутреннему Богу», как он осуществляется в медитативной молитве (dppr|TOÇ àvcoaiç — «неизреченное восхождение») ультралиберального протестанта, становится роковым признаком молитвы, главным актом любой религии. Иными словами, религия и молитва определяются через свои последние, наиболее редкие и утонченные формы. Впрочем, Сабатье первым признает, что его концепции являются отражением эволюции и пытается обрисовать ее ход [646]. Он показывает, что изначально все религиозное содержание молитвы исчерпывалось верой в ее действенность. В отличие от Тиля, он допускает, что она могла держать богов в подчинении. Затем, согласно его доводам, фетишизм и политеизм установили между богами и людьми некий договор и человек отныне молился, чтобы что-то получить. Религия Израиля представляет собой еще один шаг вперед: в результате соединения морали и благочестия возникла молитва доверия, отрешенности, радости. Но строгий иуда- истский монотеизм сохранил страх перед богом, совершенно чуждым по отношению к человеку. Эволюция завершается с появлением Евангелия: после Иисуса человек может обращаться к Богу как к Отцу [647]. Однако как бы ни был интересен этот исторический экскурс, мы видим, насколько произвольно подобраны факты. По поводу истоков фетишизма (если таковой был) в иудаизме и христианстве мы имеем лишь беглые обзоры — философские изложения, которые никак не могут рассматриваться в качестве доказательств. Сущность великих религий не исчерпаешь в нескольких строках, даже сжато. С другой стороны, не рассмотрены важные факты, противоречащие этой теории. Так, Сабатье считает очевидным, что молитва — индивидуальное явление, хотя во многих религиях мирянам или женщинам молиться запрещено [648]. Все это объясняет, что результаты обсуждения предопределяются вероисповеданием автора. Речь идет не столько об анализе фактов, сколько о демонстрации превосходства христианства.
МОЛИТВА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН
Если теоретики не выходят за рамки общих рассуждений, то это, в первую очередь, происходит потому, что способ постановки проблемы отгораживает их от данных, необходимых для ее разрешения. Действительно, для них молитва является главным образом индивидуальным феноменом: это дело совести, это дело духовной личности, проявление состояния души [649]. Что же до принимаемых ею форм, то в них ученые видят некоторую недостачу духовного наполнения; по их мнению, это нечто внешнее и несущественное, некий язык, изобретенный для удобства верующих церковной властью или каким-то поэтом, каким-то специалистом и обретающий смысл лишь когда на нем выражают личные чувства. В таком случае молитва становится неуловимым феноменом, который можно познать, лишь спрашивая самого себя или тех, кто совершает обряд моления. Здесь единственно возможный метод — интроспекция, в лучшем случае подкрепляемая лишь ссылками на результаты интроспекции других людей, то есть «религиозных переживаний», которые можно найти в теологической литературе. Однако, будет ли это интроспекция или столь модная сегодня психологическая статистика, можно определить разве что способ, которым молятся такие- то и такие-то люди, их число и как они представляют себе то, о чем молятся. Нам постоянно приходится совершать действия, ни причин, ни смысла, ни значения, ни истинной природы которых мы не можем понять; зачастую все попытки осознавать приводят лишь к самообману. Даже когда речь идет о чем-то для нас привычным, мы можем составить относительно этого действия совершенно неадекватное представление. Эмпирическое знание языка даже у поэтов или драматургов — это одно, а знания филолога или лингвиста — другое. Аналогично, молитва — это одно, а представление о ней, создаваемое с опорой лишь на собственные средства пусть даже религиозным и просвещенным умом, — совершенно другое.
Если и есть явление, в отношении которого самонаблюдение совершенно несостоятельно, то это молитва. Мало того, что молитва вовсе не является продуктом индивидуального сознания, который можно было бы легко понять с помощью самосозерцания, она еще состоит из таких элементов, происхождение и природа которых нам совершенно непонятны. Здесь сливаются воедино миф и ритуал. Рассмотрим для примера одну из простейших религиозных формул [650]— благословение: «Во имя Отца и т. д.». Почти вся христианская догматика и литургия теснейшим образом переплелись в ней. «In nomine»: следовательно, сила приписывается самому слову благословения, имени божьему, а также особая сила приписывается человеку, произносящему формулу, что подразумевает целую священническую организацию, когда благословляет священник, индивидуализацию религии, когда благословляет мирянин и т. д. «Patris»: имя отца дается единому богу, следовательно, подразумевается монотеизм, концепция внутреннего бога и т. д. «Fili»: догмат сына, Иисуса, следовательно, речь идет о мессианстве, жертвоприношении Бога и т. д. «Spiritus sancti»: догмат Духа, следовательно, имеется в виду Логос, Троица и т. д. Наконец, молитва в целом несет на себе знак Церкви, как создателя догмата и ритуала. И едва ли в настоящее время мы способны понять все, что содержит такая простая на первый взгляд фраза! Мало того, что она сложна в силу многочисленности своих составляющих, — каждое из них, в свою очередь, является итогом долгого развития, открыть которое индивидуальное сознание, разумеется, не может. Междометие, с которого начинается, например, воскресная молитва, появилось в результате работы, длившейся на протяжении веков. Молитва — не только излияние чувств или крик души. Это еще и часть религии. В ней мы слышим эхо бесконечной череды формул; это часть целой литературной традиции, продукт усилий целых поколений.
Это означает, что прежде всего молитва — социальный феномен, ибо социальный характер религии достаточно очевиден. Религия — это органическая система понятий и коллективных обрядов, имеющих отношение к сакральным существам, которые она признает. Даже когда молитва индивидуальна и имеет характер свободного творчества, и даже если верующий сам выбирает слова и момент, он произносит только освященные традицией фразы и говорит только о вещах, которые освящены традицией. Даже в мысленно произносимой молитве, когда, согласно формуле, христианин отдает себя духу — dvocKparr|0fjvoa тф nveopaxi («укрепляться духом»), то это именно дух Церкви, молящегося вдохновляют идеи его секты, им владеют чувства, допускаемые моральными предпочтениями, исповедуемыми этой сектой. Буддист во время своих упражнений и аскетической медитации, karmasthäna, будет прислушиваться к своему внутреннему голосу совершенно иначе, поскольку в его молитве выражается иная религия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: