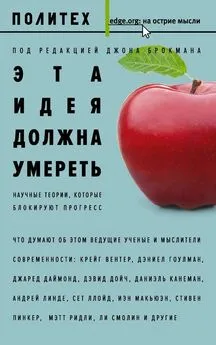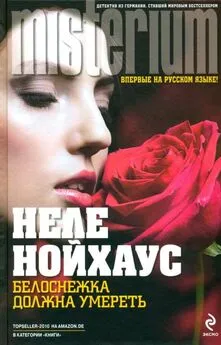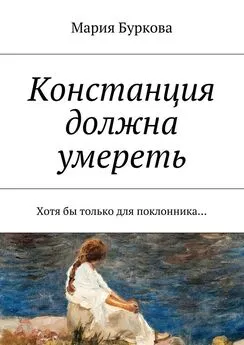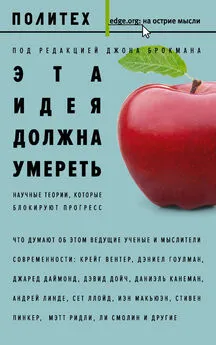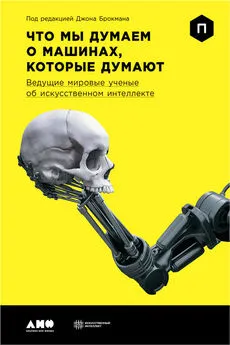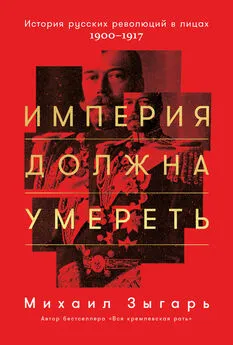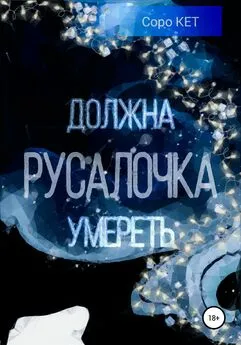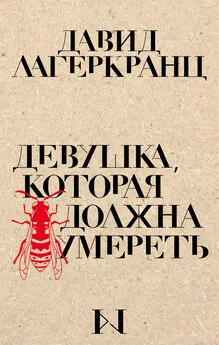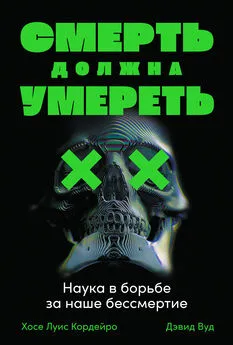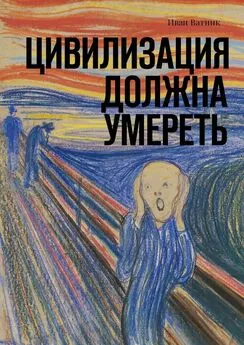Джон Брокман - Эта идея должна умереть. Научные теории, которые блокируют прогресс
- Название:Эта идея должна умереть. Научные теории, которые блокируют прогресс
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джон Брокман - Эта идея должна умереть. Научные теории, которые блокируют прогресс краткое содержание
Как и можно предположить, ответы оказались весьма разнообразными и подчас неожиданными: по мнению ведущих профессионалов современной науки, немедленного пересмотра заслуживают не только многие теории, но и краеугольные принципы самого́ научного подхода…
Эта идея должна умереть. Научные теории, которые блокируют прогресс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Попытки сконструировать некую науку, которая была бы выстроена вокруг культуры (или обучения) как унитарной концепции, так же дезориентируют, как и попытки разработать доказательную науку, изучающую белые объекты, – то есть одновременно яичную скорлупу, облака, звезды – белые карлики, певца Пэта Буна, склеру, кости, компьютеры MacBook первого поколения, сок одуванчика, лилии…
Взгляните на жилые и офисные здания и на всё, с помощью чего они коммуницируют одно с другим и влияют друг на друга, – на улицы, линии электропередачи и кабели, на водопроводные и канализационные сети, на почту, телефонные линии и мобильную связь; а также на насекомых – переносчиков инфекции, на кошек, грызунов и термитов, на облаивающих друг друга собак, на пожарную сигнализацию, на запахи, зрительный контакт с соседями, на автомобили, мусорщиков, продавцов, ходящих со своим товаром от квартиры к квартире, и так далее.
Наука, суть которой состояла бы в изучении влияния одного здания на другое («культура зданий»), была бы по большей части совершенной чушью – и точно так же выглядит наша «наука» о культуре, понимаемой как влияние одних людей на других.
Культура представляет собой функциональный эквивалент протоплазмы, предполагаемой (и «наблюдаемой») субстанции, которая по идее должна была, используя непонятные нам механизмы, выполнять те или иные жизненно важные процессы. Теперь мы понимаем, что концепция протоплазмы была ошибочной – ведомые собственным невежеством, мы придумали некий черный ящик, которым заменили липидные бислои, рибосомы, тельца Гольджи, протеасомы, митохондрии, центросомы, реснички, везикулы, сплайсосомы, вакуоли, микротрубочки, ламеллоподии, цистерны и т. д. – то есть все то, что на самом деле отвечает за клеточные процессы.
Подобно протоплазме, культура и обучение представляют собой «черные ящики», которые наделяются невозможными свойствами и выдаются за объяснения. В моем представлении на их место должны прийти карты разнообразных когнитивных и мотивационных «органоидов» (нейронных программ), которые на самом деле выполняют всю ту работу, которую мы пока что приписываем обучению и культуре.
Культура и обучение – это битумные ямы наших общественных наук и наук о поведении. После столетия неправильно выбранных поворотов наши научные колесницы продолжают вязнуть в этих бездонных ямах, однако нас устраивает подобное положение дел, поскольку этот концептуальный битум, кажется нам, заполняет собой все логические бреши, которых так много в науках о человеке. Нам безосновательно представляется, что липкая масса «решает» все якобы очевидные проблемы, однако на самом деле она замазывает подлинную специфику причин и следствий, которые в каждом случае должны быть обнаружены и зафиксированы.
Мы переносим наше собственное ментальное содержание на культуру, поскольку единственное альтернативное объяснение этого ментального содержания – гены. На самом же деле в нашей нервной системе в ходе эволюции развились самообучающиеся (как это происходит в искусственном интеллекте) экспертные системы, которые, взаимодействуя с входными сигналами окружающей среды, пополняют наше сознание огромными массивами контента – и лишь часть его получена от других людей. Человек перестает быть пассивным «сосудом, заполненным культурой». Эти саморазвивающиеся системы превращают его в активного агента, который энергично строит свой собственный мир. Некоторые нейронные программы, ориентированные на решение частных задач, в процессе обучения лучшему решению этих задач достигли такого уровня, что начали производить собственный контент на основе полезной и легко доступной информации, полученной от других (то есть из «культуры»).
Но, как и здания, в которых они живут, люди связаны между собой множеством различных каузальных путей, причем каждый из них предназначен специально для выполнения определенных функций. Мозг каждого из нас ощетинился множеством независимых «трубопроводов», переправляющих самый различный контент от одних механизмов мозга к другим.
Так возникает культура страха перед змеями (существующая «внутри» системы мозга, сигнализирующей об опасности ядовитых пресмыкающихся), культура грамматики (существующая «внутри» механизма, отвечающего за освоение языка), культура предпочтения той или иной пищи, культура групповой самоидентификации, культура брезгливости, культура дара, культура агрессии и так далее.
В различных вычислительных средах – то есть в таких, которые построены на основе развившихся в ходе эволюции ментальных программ и их комбинаций, – живут радикально различные виды «культуры». И что действительно объединяет людей, так это всеобъемлющая метакультура – набор универсальных когнитивных и эмоциональных программ, присущих нашему биологическому виду, и имплицитный (а следовательно, и невидимый) мир смыслов, который эти программы порождает и который является общим для нас всех.
Поскольку адаптивная логика этих эволюционировавших нейронных программ теперь может быть отображена, перед нами открываются перспективы построения по-настоящему строгой науки о человеке. И если бы мы могли отправить на покой идеи «обучения» и культуры, то это избавило бы нас от двух препятствий, до сих пор мешающих гуманитарным наукам развиваться со скоростью мысли.
«Наша» интуиция
Стивен Стих
Член совета попечителей, профессор кафедры философии и центра когнитивной науки, Ратгерский университет.
Я бы хотел поговорить об одной стратегии защиты философских взглядов, которая практикуется еще со времен Античности. Эта стратегия используется для подкрепления правил аргументации (в науке и где угодно еще) и моральных принципов, а также для защиты таких явлений, как знание, причинность и значение. Но открытия последнего времени все чаще демонстрируют нам, что эту стратегию пора отправить на покой после 2500 лет работы.
Вот как она работает. Сначала дается описание кейса – порой реального, а часто вымышленного, – а затем философ задается вопросами: «Что мы можем сказать об этом кейсе? Действительно ли герой этой истории обладает знанием? Можно ли считать поведение героя морально допустимым? Стало ли первое событие причиной второго?» И, если все идет как надо, философ и его аудитория приходят к одним и тем же спонтанным суждениям в отношении этого кейса.
Современные философы называют такие суждения «интуиция». И, с точки зрения философской теории, наша интуиция представляет собой важный источник суждений. Если теория философа согласуется c нашей интуицией, то теория получает подтверждение; если теория контринтуитивна, то она ставится под сомнение. Если вам доводилось изучать философию, то вам наверняка знаком этот метод.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: