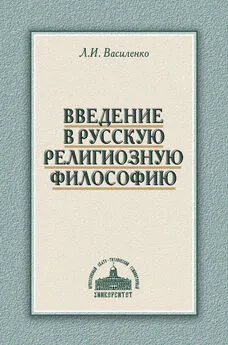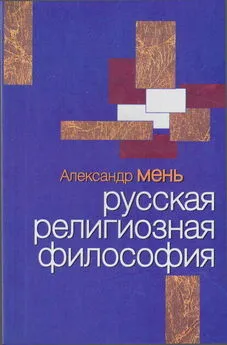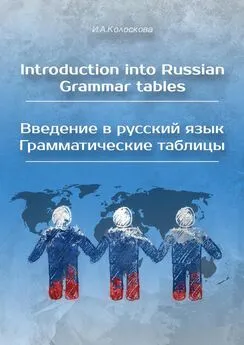Леонид Василенко - Введение в русскую религиозную философию
- Название:Введение в русскую религиозную философию
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «ПСТГУ»
- Год:2009
- Город:М.
- ISBN:5-7429-0218-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Василенко - Введение в русскую религиозную философию краткое содержание
Рекомендуется для студентов богословских учебных заведений, философов, всех, интересующихся историей русской философской и религиозной мысли.
Введение в русскую религиозную философию - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Неполное знание не следует считать всегда неверным, т. к. за всю историю рода человеческого никто не достигал полноты ни в какой области знаний. Свою далеко идущую оценку И. Киреевский сам ограничил рядом оговорок и признал «относительную истинность» тех знаний, которые получает разум в невоцерковленном состоянии (5, с. 251). При этом он прав в критике рационализма как самомнения разума, как гордости ума, распространенной в западной философии и социальной жизни, в западном христианстве. Рационализмом он объяснял появление Filioque (лат. «и от Сына») в католическом Символе веры, хотя дело не только в этом.
Еще пример его критики. Рационалист Декарт исходил в философии из горделивого чувства личного самосознания: Cogito ergo sum (лат. «Я мыслю, следовательно, я есть»). Разум человека, как думали Декарт и его последователи, способен, не нуждаясь в вере, выйти на прямое созерцание безошибочных истин, осмыслить их и построить надежную систему знания. Но, возражал И.Киреевский, самосознание, отделенное от всех и от Церкви, не достигает безошибочности.
Была ли его критика Запада во всем справедливой? Начиная с Паскаля, там тоже критиковали рационализм, так что не следует сводить все западное целиком к рационализму. Киреевского нередко сопоставляли с Паскалем, который тоже писал о познании Бога и о сердце человека; можно сравнить и с Максом Шелером в XX в. Киреевский трактовал неправоту рационализма так: индивидуалистический разум не достигает истины, потому что мыслит в отрыве от реальности, воспринимаемой сердцем, полным верой. Вера просвещает душу, формирует разум, вводит его в истину, и он уже не думает об истине как о чем-то внешнем. Сама истина становится в нем светом, позволяющим осмысливать все остальное.
Истина открывается тем, кто достигает единства сердца и разума, а сердце – единства с Богом в Церкви, живого общения с Ним. Когда сердце и разум едины в любви к Богу, в подлинной вере, в живом и ответственном церковном служении, им открывается тайна истории, тайна внутреннего мира личности – здесь Киреевский прав. «Верою познаём, что веки устроены словом Божиим», – писал ап. Павел (Евр. 11:3). Как именно верующее мышление обретает глубокое внутреннее единство с реальностью, Киреевский конкретно не разъяснил.
Некоторые авторы указывали на недостаточную философскую ясность его слов «цельность разума» и «только существенность может прикасаться к существенному» (5, с. 280). Под «существенностью» Киреевский понимал, судя по всему, внутреннюю собранность разумно-свободной личности, которой таинственным образом дано войти в контакт с реальностью. Вере такой личности придается смысл не только общения с Богом или «взора сердца к Богу» (с. 90), но и способности доступа к внутренней жизни созданного Богом мира. Мы вправе сказать в порядке комментария, что обретение цельности в смысле Киреевского следует понимать скорее как условие достижения истины, чем как ее гарант. Можно допустить, что вера, понимаемая как верующее мышление, получает доступ к реальности через особые личные акты откровения свыше, которые могут даваться по крайней мере некоторым из тех, кто стал разумно-свободной личностью.
Духовная истина православия раскрывается в Церкви в ходе исторического процесса, охватывающего народную и государственную жизнь. Триединую формулу «Православие, самодержавие, народность» Киреевский трактовал в том смысле, что именно православию принадлежит духовно ведущая роль. Народ нуждается в руководстве Церкви, потому что хотя он и сохранил еще веру, «но, по несчастью, нельзя не сознаться, что он потерял уже одну из необходимых основ общественной добродетели: уважение к святыне правды » (5, с. 272). Народ должен быть в глубоком духовном единомыслии со своей Православной Церковью и народность следует понимать как «соборность духовно-свободных личностей» (И. Смолич), всецело преданных Церкви.
Государство должно проникаться духом церковности и ее верой, брать на себя служебную роль по отношению к верующему народу, единому с Церковью. Киреевский готов был ждать обращения государственных деятелей к вере церковной и народной, он был решительно против того западного понимания, что государство и его институты должны быть отделены от Церкви. Он был также против произвольного вмешательства властителей в дела Церкви, поэтому оценивал Ивана Грозного как «еретика» за его поступки в отношении к Церкви, «еретика», очевидно, не в догматическом смысле, а в смысле «ереси жизни».
§ 4. Алексей Хомяков о соборности и истине
Другим основателем славянофильства стал Алексей Степанович Хомяков (1804–1860). Его называли православно цельным человеком, «рыцарем Пресвятой Богородицы», «рыцарем Церкви». Душа его и мысль были созвучны всему лучшему в православии. Его постоянно переиздаваемая работа «Церковь одна» ясна, цельна, кратка. Его уважали Герцен и Бердяев. Хомяков не был профессиональным богословом, его богословские рассуждения тесно сплетаются с философскими оценками и аргументами, поэтому его относят к философам.

В России тогда насаждалась официальная формула министра народного просвещения графа С.С. Уварова: «Православие, самодержавие, народность». (Уваров вместе со Сперанским прошел через элитарную масонскую ложу Фесслера). Ее, с одной стороны, использовали для идеологического оформления неканонической синодальной системы, а с другой – она устраивала защитников крепостного строя. Понятно, что эту формулу можно и нужно было истолковать в лучшем смысле, но Хомяков воспринял ее как еще один вызов подлинному православию (внутрироссийский вызов помимо западного) и обратился к тому, чтобы найти ответ в истоках русского православия. А именно, в том, что наша Церковь – Единая, Святая, Соборная и Апостольская, она сохранила свое подлинное преемство с истинным православием древности, в Церкви главное – истина и свобода во Христе.
Хомяков понимал свободу не индивидуалистически – не как свободу от внешних ограничений или как условие личной независимости, как свободу выбора, самоутверждения и самореализации. Такое понимание свободы задали Ренессанс и Новое время, оно – результат размывания христианской культуры. Отрицать, что есть свобода выбора, было бы бессмысленно, но Хомяков подчеркивал, что главная свобода человека – это свобода в истине, в смысле слов Христовых: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32) и слов ап. Павла: «К свободе призваны вы, братья» (Гал. 5:13). Свобода во Христе – истинная свобода, а нецерковный человек в главном просто не свободен. Свобода во Христе и истина – главные признаки соборности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: