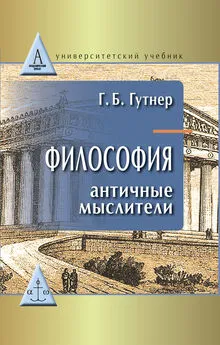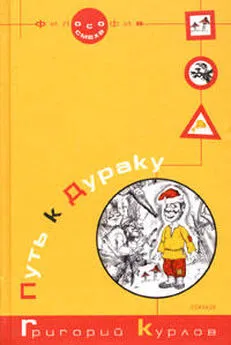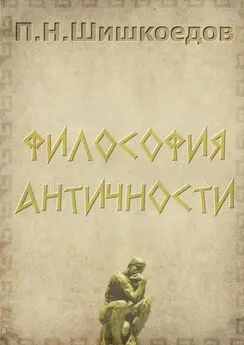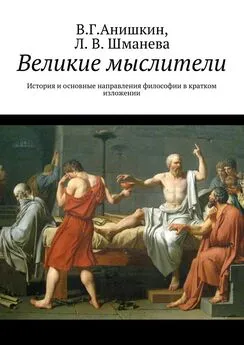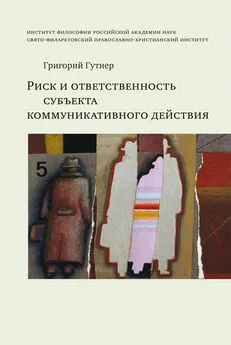Григорий Гутнер - Философия. Античные мыслители
- Название:Философия. Античные мыслители
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Свято-Филаретовский православно-христианский институт Литагент СФИ
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89100-130-5, 978-5-8291-1883-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Гутнер - Философия. Античные мыслители краткое содержание
В отличие от многих учебников по истории философии, в которых в хронологическом порядке пересказываются мнения («доксы») разных мыслителей, в книге прежде всего идет поиск ответа на вопрос, как мыслил тот или иной философ, а не что он утверждал. Читатель не найдет в учебнике изложения всех философских доктрин или теорий, возникших в античности. Однако по мере чтения у него возникнет представление о том, сколь серьезные проблемы возникали перед мыслителями того времени, и он в той или иной мере будет вовлечен в движение мысли, пытавшейся их решить.
Учебник предназначен для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Философия» (47.03.01), «Прикладная этика» (47.03.02), «Религиоведение» (47.03.01), «Теология» (48.03.01) и другим гуманитарным направлениям и специальностям.
Философия. Античные мыслители - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Стоит, для начала, обратить внимание на методологический ход, подмеченный Аристотелем в рассуждении Левкиппа. Он строит свою теорию так, чтобы она имела проверяемые следствия. Исходные теоретические положения – существование атомов и их движение в пустоте – говорят о вещах ненаблюдаемых. В этом смысле атомизм есть умозрительное построение, как и учение элеатов. Однако из атомистической концепции можно вывести такие заключения, которые подтверждаются опытом. Ничего подобного учение элеатов не позволяет. Сохраняя внутреннюю логику, оно находится в явном противоречии с наблюдениями, что и позволило Аристотелю дать этому учению столь резкую оценку.
Перейдем теперь к «онтологической» стороне дела. В этом кратком отрывке весьма точно представлено существо атомистической теории и ее связь с теорией элеатов. В последней, как мы видели, бытие однородно и неподвижно. Движущееся, изменяющееся и множественное – не существует. Атомисты же, сохраняя противоположность бытия и небытия, мыслят их как атомы и пустоту. Вспомним, что и пифагорейцы полагали пустоту присутствующей в космосе и разделяющей все существующее. Именно такое разделение создает неоднородность, а значит и мыслимую структуру. Согласно Левкиппу и Демокриту, пустота разделяет атомы, которые движутся в пустоте, и, соединяясь, образуют все вещи.
Другие источники указывают также, что атомы, по учению Демокрита, различаются по форме, например могут быть шарообразными, кубическими, пирамидальными и даже выгнутыми, вогнутыми, крючковатыми, якореобразными и т. д [51] См.: [ Гайденко, 68].
. Эти различия определяют различия свойств состоящих из них тел. Впрочем, они зависят еще от порядка соединения атомов, имеющих разную форму.
Атомы характеризуются как бытие, как нечто чуждое пустоте, т. е. небытию. Именно этим объясняется их неделимость. Атом, подобно парменидовскому бытию, внутренне однороден, в нем нет частей, которые можно было бы отделить друг от друга. Только присутствие в некотором целом пустоты обусловливает отделимость его частей. Следовательно, благодаря пустоте существует множество, движение, возникновение и уничтожение.
Надо признать, что образ мира, предлагаемый атомистами, весьма мрачен: атомы, совершающие круговращение в пустоте [52] По свидетельству Диогена Лаэртского, это движение вихреобразно. См.: [Диоген Лаэртский, 343–348 ].
.
Демокрит дополняет эту картину жестким детерминизмом. Диоген Лаэртский передает такое его суждение: «Ничто не возникает из несуществующего, и ничто не разрушается в несуществующее». Это, на первый взгляд, тривиальное утверждение имеет серьезные следствия. Прежде всего, оно связывает возникновение и уничтожение с причинной обусловленностью. Всему возникшему предшествует нечто, из чего оно появилось. Это «из» не может означать просто безразличный субстрат, подобный почве, из которой возникает растение. То, из чего появляется нечто, содержит всю полноту условий этого возникновения. Возникающее, в известном смысле, предсуществует в том, из чего оно возникает. В том, что возникает, не может появиться ничего, что не существовало бы прежде. В противном случае мы имели бы дело с возникновением из несуществующего. Иными словами, в мире не появляется ничего нового. Все, что есть сейчас, было всегда. А поскольку «ничто не разрушается в несуществующее», то все это также всегда будет. В контексте демокритовского атомизма это означает, что в вечно существующем космосе постоянно происходит перекомбинация одних и тех же неразрушимых и не возникающих атомов. При этом возникновение каждой новой комбинации строго обусловлено предыдущими [53] Ср. свидетельство об учении Демокрита у Диогена Лаэртского: «Все возникает по неизбежности: причина всякого возникновения – вихрь, и этот вихрь он называет неизбежностью» [Диоген Лаэртский, 34б\.
. Заметим, что неразрушимость атома вытекает из его неделимости. Разрушение какого-либо тела обусловлено присутствием пустоты в нем, т. е. его сложностью и неоднородностью. Однородное и простое (т. е. не составленное из частей) не возникает и не уничтожается, а существует всегда.
1. В чем атомисты расходятся с элеатами?
2. В чем сходство атомистической и пифагорейской онтологии?
3. Какой методологический принцип находит Аристотель у атомистов?
4. Каков смысл тезиса: «Ничто не возникает из несуществующего, и ничто не разрушается в несуществующее»? Что из него следует?
Глава 4
Софисты и сократ
Сейчас мы должны рассмотреть историко-философский сюжет, развитие которого буквально вынудило философов повернуться от космоса к человеку, к основам его поведения и мышления. Этот сюжет связан с появлением в публичной сфере особого рода людей, известных как софисты или, иначе, учителя мудрости. Заметим, что их деятельность спровоцировала формирование как минимум двух систематических дисциплин: этики и логики. Об этом потребуется сказать еще несколько слов, хотя наше основное внимание будет сосредоточено на онтологических проблемах.
Появление софистов весьма естественно в той обстановке, которая складывалась в греческих полисах. Сама природа этого государственного устройства подразумевает свободное общение граждан. Равные между собой и свободные люди решают проблемы не принуждением и насилием, не властью авторитета или ссылкой на традицию. Они ищут решения в ходе публичной дискуссии, убеждая друг друга с помощью разумных доводов. Это важно и в дружеском общении, и при рассмотрении государственных дел, и в судебных разбирательствах. Поэтому весьма востребованным оказывается искусство говорить убедительно. Именно этому и учили софисты. Сами они были признанными умельцами в деле убеждения и, по-видимому, умели доказывать все, что угодно. По крайней мере претендовали на это, а также на то, чтобы научить такому искусству любого желающего. Здесь-то и таилась опасность. Получалось, например, что владея софистическим искусством, человек может оправдать в суде любое преступление. Софисты и не скрывали этого. Они вполне признавали, что истинным можно считать то, что тебе выгодно в настоящий момент. Важно лишь умело убедить в этом других или, по крайней мере, опровергнуть все доводы противников. В таком случае, любое злодеяние можно назвать полезным и добрым поступком, а любой порок добродетелью. Известный софист Протагор выразил эту мысль с помощью афоризма: «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, не существующих, что они не существуют». Смысл этого утверждения в том, что человек волен сам решать, что есть, а чего нет. Например, есть ли в рассматриваемом поступке добродетель или ее там нет. При желании можно, позорно бежав с поля боя, убедить всех, что это и есть настоящее мужество, унизить достойного человека и доказать, что в этом проявляется настоящая справедливость и т. д. Подобного рода взгляды, по-видимому, были не редки в греческих полисах в ту эпоху. Несколько таких персонажей выведено в диалогах Платона. Справедливости ради надо сказать, что это – не сами софисты, а их ученики, намеренные использовать полученные умения в жизни. Сами софисты предстают у Платона людьми весьма почтенными, вовсе не склонными разрушать общественную нравственность. Один из них – Горгий – даже сетует, что искусство красноречия, которому он учит, используется недостойно. При этом он не забывает добавить, что учитель не может отвечать за поведение своего ученика. Впрочем, само признание Горгия весьма показательно. Соглашаясь, что умение убедительно говорить можно использовать в дурных целях, он косвенно признает возможность обосновать все что угодно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: