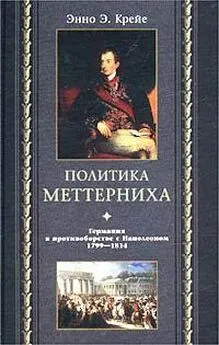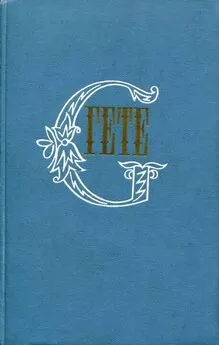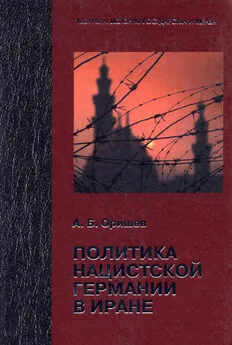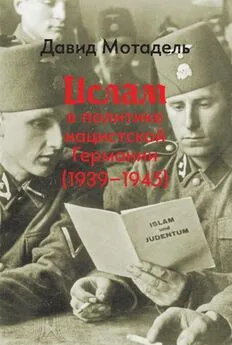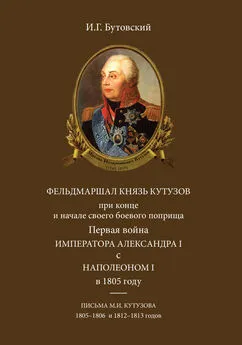Энно Крейе - Политика Меттерниха. Германия в противоборстве с Наполеоном. 1799-1814
- Название:Политика Меттерниха. Германия в противоборстве с Наполеоном. 1799-1814
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-9524-0083-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Энно Крейе - Политика Меттерниха. Германия в противоборстве с Наполеоном. 1799-1814 краткое содержание
Автор освещает основные этапы противоборства с Наполеоном выдающегося австрийского министра иностранных дел Клеменса Лотара фон Меттерниха на фоне исторической картины, сложившейся в Европе в конце XVIII – начале XIX века. Знакомит с основными фактами жизни и деятельности блестящего политика, чей талант к интригам и гибкая дипломатия в немалой мере влияли на развитие политической ситуации времен распада рейха и раздела третьей Германии.
Политика Меттерниха. Германия в противоборстве с Наполеоном. 1799-1814 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но возможно, мы слишком строги в требованиях документального подтверждения своих версий. Диппочта между Веной и Парижем была неподходящим средством для обсуждения чувствительных проблем, выходивших за пределы компетенции Меттерниха. Все другие факты слишком явно свидетельствуют о его горячей поддержке программы Штадиона, чтобы оставлять сомнения в их единомыслии по основным проблемам. Несомненно, деятель, который так красноречиво выступал за мобилизацию внутренних резервов Австрии для ведения народной войны, не стал бы стесняться в средствах для поощрения революционного движения в Германии. Если он явно не поддерживал там заговоры, то и не осуждал их. Его послевоенные выпады были направлены не против Штадиона, но против скептически настроенного эрцгерцога Карла, который, в свою очередь, помещал Меттерниха в один ряд с братьями Штадион как главными виновниками несчастий Австрии. В австрийской внешней политике, сокрушался Карл позднее, господствовали деятели, пострадавшие от Наполеона, которые «сочувствовали жертвам его политики даже на иноземной территории». Они цеплялись за «предвзятые мнения, избегали серьезных дискуссий и вместо разумных доводов пользовались остротами и разными трюками…». В общем, было бы справедливо сделать вывод, что Меттерних, хотя, возможно, и отличался меньшим доктринерством и сентиментальностью, чем другие германские беженцы, все же был одним из них, рейхсграфом, одержимым лихорадкой освобождения Германии.
В связи с тесными связями Меттерниха с общенародным подъемом в Австрии в 1809 году крайне важно установить истинную природу этого подъема. Некоторые историки усматривали в военной программе Австрии революционный крестовый поход под знаменем подлинных национальных и либеральных идеалов. Этот вывод подкреплялся радикальной риторикой руководителей военной кампании – восхвалением свободы, обещаниями восстановления и реформирования государственных ассамблей, экстравагантными апелляциями к народным «добродетелям», поддержкой заговорщиков в Германии. В дальнейшем следует признать само собой разумеющимся, что аристократы-изгнанники, собравшиеся вокруг Штадиона, принадлежали к гораздо более просвещенной и энергичной когорте людей, чем их отцы, старшие братья и кузены, которые сосредоточились с мрачной решимостью на возвращении своих поместий и не нашли ничего лучшего в 1814 году, когда настало время их торжества, как предложить реставрацию их прежнего положения с буквально расписанными своими правами, в частностях и в целом.
Любая реставрация, однако, является реформой, по крайней мере в той степени, в какой она стремится ликвидировать причины первоначальной катастрофы. Но способны ли были на реформы люди, рисковавшие имуществом и самим образом жизни, не имевшие возможности выполнить взятые на себя обязательства, остается весьма проблематичным. Главное – отсутствовало согласие по вопросу о том, что представляет собой нация. Фридрих Штадион, Штейн и эрцгерцог Йохан смутно представляли себе германскую нацию как совокупность людей, объединенных общей культурой. Однако большинство других деятелей, включая Филиппа Штадиона и Меттерниха, усматривали в ней народ, который, как и в других государствах, противопоставлен власти. Для них так называемый национализм существовал в реальности в виде провинциального патриотизма, выработанного неприятием централистской и бюрократической практики бонапартизма, или в виде острой ностальгии по старому рейху, тоски по учреждениям, неожиданно приобретшим романтический ореол, после того как они перестали существовать. Например, из Хормайра и Андреаса Хофера вряд ли могло получиться что-либо иное, кроме стойких борцов за автономию Тироля – этаких Вильгельмов Теллей позднего времени. В основе германского национализма того времени, подобно его польскому варианту, лежало кредо аристократов, которые жили мечтами о прошлом – в одних случаях 1803 годом, в других – 1772-м. Хотя национализм в некоторых отношениях и ориентировался на реформы, он все-таки мало напоминал этический национализм и либерализм среднего класса более поздних поколений. Поступало мало серьезных предложений о преобразовании корпоративных земств в современные парламенты, упразднении крепостного права или радикальном изменении социальной и экономической организации феодального поместья.
Наоборот, в отношении аристократии разного статуса проявлялась чрезвычайная заботливость, в том числе к суверенам всеми поносимого Рейнского союза. За исключением явных узурпаторов чужих владений, герцога Берга и короля Вестфалии, всем князьям разрешалось сохранить, как минимум, свои «наследственные земли», а некоторые (подобно самой Австрии) могли сохранить за собой вознаграждения в виде церковных владений, полученные по Имперскому эдикту. В этом смысле «легитимные» претензии подопечных Наполеона могли быть совмещены с процессом реставрации аннексированных владений. В самом деле, инструкции, с которыми в 1809 году Валмоден прибыл в Лондон, а Шварценберг – в Санкт-Петербург, совершенно определенно провозглашали целью Австрии «восстановление законных прав каждого собственника на владение земель, принадлежавших ему до времени узурпации Наполеона».
Что касается Германии, то трудно избежать впечатления, что конечной целью Штадиона была реставрация старого рейха. Ни он, ни кто-либо еще из его окружения не составил плана на будущее, сравнимого с тем, который составил Генц. Почему? Потому что в Австрии не было нужды будоражить умы, потому что разговоры о неминуемой реставрации способствовали бы лишь укреплению связей суверенов Рейнского союза с Наполеоном, потому что они лишь укрепляли бы стремление Пруссии к соблюдению нейтралитета. Вследствие этого заявления, исходившие из дворца Хофбург, отличались уклончивостью и противоречивостью. Манифест в связи с объявлением войны подтверждал, что кайзер никогда не будет «вмешиваться во внутренние дела других государств или позволять себе выносить оценки их системам управления, правовым нормам, административным решениям, программам развития вооруженных сил». Но манифест не гарантировал суверенитета государств союза, не дезавуировал намерения восстановить рейх, на чем настаивал Генц. Вместо этого в документе роспуск рейха расценивался как одно из преступлений Наполеона, как причина войны и еще кое-чего, с чем Австрия была вынуждена временно примириться.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: