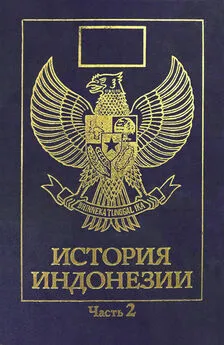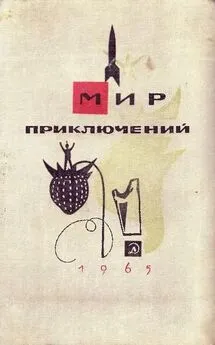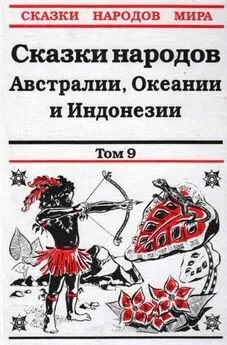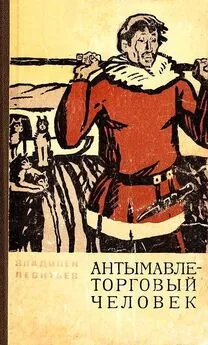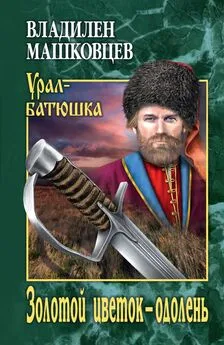Владилен Цыганов - История Индонезии. Часть 2
- Название:История Индонезии. Часть 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Московского Университета
- Год:1992
- Город:Москва
- ISBN:ISBN 5-211-02046-4 (ч. 2); 5-211-02172-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владилен Цыганов - История Индонезии. Часть 2 краткое содержание
Для студентов востоковедных факультетов.
История Индонезии. Часть 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Степень эксплуатации пролетариата была исключительно высока. Рабочее законодательство отсутствовало. Существовала откровенная расовая дискриминация в оплате рабочей силы: дневной заработок индонезийского рабочего (от 0,16 до 0,62 гульдена у разных категорий) зачастую был ниже часовой зарплаты рабочего–голландца. На предприятиях: с использованием механической энергии работало 1не более 300 тыс. человек. Воздействие мелкокрестьянской массовой психологии на рабочих оставалось очень сильным.
Вместе с тем степень концентрации пролетариата была довольно высокой; он формировался сразу как общеиндонезийский класс, далеко опережая в этом национальную буржуазию, причем не только на Яве, но и на Внешних островах. Соединение в общем русле антифеодальной, антиколониальной и классовой борьбы, раннее формирование рабочих профсоюзов, роста классового самосознания пролетариата — все это революционизировало рабочий класс и давало ему веские основания претендовать на видное место в национально–демократическом движении.
Неуклонно ухудшалось положение крестьян. Класс–сословие феодального общества разлагался ускоряющимися темпами. Экспансия капиталистического плантационного хозяйства стимулировала развитие товарных отношений, процесс обезземеливания крестьянства. Уже в 1930 г. всеми видами аренды и «Частными землями» было охвачено почти 1,5 млн га (около 44% лучших поливных земель Явы), причем обрабатывалась лишь половина, остальные придерживались про запас (арендные ставки были крайне низкими). К 1940 г. около трети крестьян совершенно лишились земли. Из оставшихся 70% семей владели участками менее трети га (что исключало возможность прожить без приработков); 25% —от 1/3 до 1 га, и лишь 0,5% землевладельцев имели участки свыше 5 га. Там, где общинные отношения, были изжиты [4] Уже в 1907 г. на Яве и Мадуре индивидуальное землевладение распространялось на 64% обрабатываемых земель, а в 1932 г. оно расширилось до 83%. Во Внешних владениях доминировало коллективное (общинное) землевладение.
, утратившие землю крестьяне превращались в рабочих–издольщиков, не получавших и трети урожая. На тех землях, где община сохранилась, крестьянину приходилось закладывать ростовщику свой урожай на корню, рассчитывая в лучшем случае на половину урожая. И здесь крестьянин тоже фактически становился батраком на собственной земле.
Батраки, поденные и сезонные кули и бедняки составляли в 1925 г. до 62% сельского населения. Их среднегодовые доходы на семью колебались от 40 до 58 ам. долл. Да и доходы среднего крестьянина не превышали 120 долл. Помимо ренты крестьянин нес барщинные повинности в пользу феодала, а также деревенской верхушки (от 12 до 35 дней ежегодно). Кроме того, он был обязан уплачивать налоги: подушный, водный и др. — в пользу колониальной администрации (12—15% от доходов).
Медленное, мучительное внедрение капиталистических отношений в экономику яванской деревни и связанные с этим обезземеливание сельского населения, рост налоговых тягот, а также расширение круга эксплуататоров за счет ростовщиков, скупщиков, плантаторов, новых помещиков вынуждали крестьян обменивать на деньги даже часть необходимого продукта, что в конечном счете приводило к пауперизации сельского населения. Голландские социологические обследования 1924 и 1936 гг. показали, что «земледелец питается хуже, чем до войны, и получает меньше в обмен на свой избыточный продукт». Несколько лучшим было положение крестьян на Внешних островах, где доминирующей фигурой был в 20—30‑е гг. мелкий товаропроизводитель, середняк (32% самодеятельного населения). Поднимая одно стихийное восстание за другим, ведя борьбу под средневековыми мессианскими и хилиастическими лозунгами, крестьяне как сословие проявили полную неспособность к организованной борьбе. В создавшихся условиях их могли возглавить и повести за собой либо пролетариат, либо буржуазия.
Феодальный класс на Яве, если не считать семейства четырех сохранившихся на острове владетельных князей, выродился в феодально–бюрократическую прослойку прияи, которая составляла низший, отчасти средний слои центрального государственно–административного аппарата (и практически весь местный). Колонизаторы экспроприировали экономическую основу; господства яванских феодалов — их земельную собственность. Прияи сохранили лишь небольшие земельные участки при своих резиденциях и право на безвозмездный труд крестьян по их обработке. На Внешних островах феодально–помещичья верхушка крупных султанатов сохранилась, удержала свои домены, право на барщинный труд крестьян и феодальную ренту и даже численно возросла вследствие продолжавшегося процесса феодализации на ряде территорий в результате постепенного распада родоплеменных отношений. Но свобода действий феодалов и там резко ограничивалась колонизаторами, лишившими местную аристократию не только политической власти, но и права сдачи основных массивов земель в концессии, установившими над ней назойливую, мелочную опеку. Поэтому даже докапиталистические классы и слои, заинтересованные в сохранении феодальных и полуфеодальных отношений и форм эксплуатации, надеялись достичь обеспечения этого не в колониальной, а в независимой Индонезии.
Переход голландцев к частнокапиталистическим методам эксплуатации НИ, бурная экспансия монополий Запада потребовали создания широкого слоя служащих новой формации: администраторов и менеджеров компаний, клерков, бухгалтеров, телеграфистов и т. п., чтобы обеспечить дешевыми кадрами служащих как растущий госаппарат, так и потребности монополий. В результате принятых мер доступ индонезийцев и «азиатов–чужеземцев» в школы европейского типа (общеобразовательные и производственно–технические) был резко расширен, а число этих школ возросло. Часть детей индонезийской элиты стали получать высшее образование за границей.
Несмотря на это, система расовой дискриминации сохранялась. Верхушка госаппарата состояла из голландцев и индо — это была так называемая «европейская гражданская служба»; низы и отчасти средние слои чиновничества, состоящие из индонезийских прияи и хуацяо, представляли «туземную гражданскую службу». На уровне уезда (кабупатен) службы смыкались. В волости (кечамантан) функционировала уже только индонезийская, администрация. Когда при всех высших административных единицах (провинция, губерния, город, уезд) были созданы совещательные советы — раадс, выборы велись по трем этническим куриям. Так, в выборах в муниципальный совет Батавии в 1938 г. участвовало 8,5 тыс. голландцев, 0,7 тыс. «азиатов–чужеземцев» и менее 3,5 тыс. индонезийцев. Действовали цензы: грамотности (знание голландского языка) и имущественный (эквивалент годового дохода в 120 ам. долл.).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: