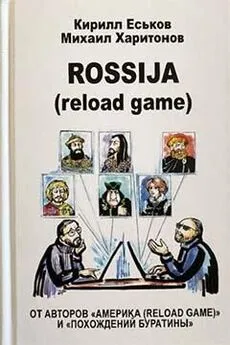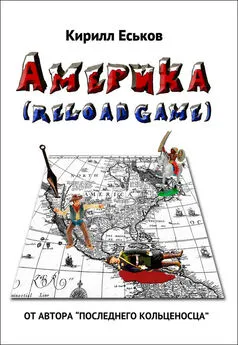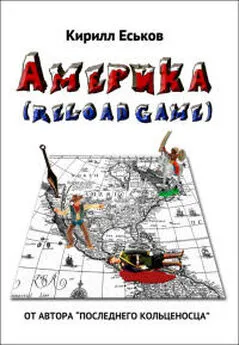Кирилл Еськов - Rossija (reload game)
- Название:Rossija (reload game)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алькор Паблишерс
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906099-11-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кирилл Еськов - Rossija (reload game) краткое содержание
Rossija (reload game) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однако историк напомнит, что так было вовсе не всегда. Как ни странно, до начала XVII века Русь вообще не блистала никакими научными или инженерными достижениями. Пожалуй, единственное, что умели тогда делать «на мировом уровне» московиты — бронзовое и чугунное литьё (откуда и взялась на Руси весьма приличная для своей эпохи артиллерия). Что же касается химии, то она пребывала в самом зачаточном состоянии.
Хлорид кобальта — химикат не бог весть насколько сложный в изготовлении, однако из «смеси забродившего сока морошки с толченой болотной рудой» его всё же подручными средствами не добудешь. Он был известен западноевропейским алхимикам (еще Парацельс, например, экспериментировал с изменяющими свой цвет соединениями кобальта, и с этим в том числе) — но не в Ливонии (которая в плане науки была дальними задворками цивилизованного мира), и тем более не в Новгороде. Так что вопрос, откуда взялся у Грозного тот хлорид кобальта — и само вещество, и инструкция по его применению — отнюдь не праздный.
Во-вторых: а что из себя представлял «Особый трибунал», судивший Курбского? У современной публики сложился образ этого годуновского детища как чего-то инфернального, вроде Севильской Святой инквизиции. Что ничуть не удивительно: в изображении хоть Байрона, хоть нынешних «исторических» телесериалов сей общественный институт неизменно предстает обширным пыточным подвалом, над входом в который начертано «Оставь надежду, всяк сюда входящий», и где все признания добывались чудовищными истязаниями, а оправдаться было невозможно в принципе. А и правда — чего еще ждать-то от московских злодеев?
Историки же рисуют совершенно иную картину. Именно потому, что тогдашние московские власти и в самом деле представляли собою шайку злодеев, они были крайне озабочены личной безопасностью. В том числе — и от облыжных обвинений. И вот, посреди тамошнего «Большого Террора», когда любой московит мог в любой момент стать жертвой казни или бессудной расправы по сколь угодно вздорному политическому или религиозному обвинению, «элита» сформировала — исключительно для собственного потребления! — отдельную от всей прочей страны судебно-следственную систему, в которой право обвиняемого на защиту было гарантировано «по лучшим мировым стандартам».
Если уж подыскивать заграничные аналоги, на ум приходит британская Звездная палата: специальная инстанция для рассмотрения дел об особо важных государственных преступлениях. При этом, скажем, Венецианский прецедент с необъятными полномочиями «Чрезвычайной тройки» Государственных инквизиторов Москву не устраивал категорически. Напомним, что инквизиторы те могли арестовать и приговорить к публичной или тайной казни любого гражданина Республики, даже члена Совета десяти — если его деятельность, по их «экспертной оценке», представлялась «угрозой для государства». При этом они не были связаны никакими юридическими формальностями при производстве следствия и вынесении приговора. «Московским злодеям» не надо было особо напрягать воображение, чтобы предугадать собственную судьбу в случае, если такой замечательный механизм окажется в руках соперников…
Как мог возникнуть сей феномен «честного суда для своих» при царящем вокруг тотальном беззаконии — в общем понятно. Московией тогда правила, как уже сказано, натуральнейшая разбойничья шайка, для которой всё прочее население — это терпилы , то есть бараны, которых можно и дОлжно стричь и резать. Перед терпилой у вора , по воровским понятиям , обязательств нет и быть не может в принципе (именно что — как у человека перед бараном), а вот перед другими ворами — как раз очень даже есть. И для того, чтобы обвинить члена шайки в настоящем , то есть воровском , преступлении — в стукачестве или там в крысятничестве с заныкиванием толики награбленного — доказательства должны быть предъявлены совершенно железобетонные: «Вынул — стреляй, не выстрелил — лох».
Так вот, Особый трибунал как раз и исполнял роль такого воровского толковища , где шайка выкатывает предъявы своим членам — при соответствующем уровне ответственности за базар . Чтобы осудить человека, там требовались реальные доказательства вины — проверяемые перекрестно свидетельства, вещдоки и тэ пэ, — а не анонимные доносы и вырванные под пыткой «признания». И если для Курбского не сделали какого-то уникального исключения из правил (а с чего бы это вдруг?..), то означенные доказательства наверняка и были предъявлены. Включая сюда и расшифровку схемы шпионской связи с использованием невидимых чернил. Вопрос: как они до этого докопались?
На всякий случай — об уровне работы Особого трибунала (раз уж к слову пришлось). Напомним, что будущий Угличский процесс над «главарями Московского режима и их ближними приспешниками» подготовят и проведут, по сути дела, те же самые сотрудники Трибунала — хотя, конечно, и под присмотром новгородских эмиссаров (а оперативно-разыскное сопровождение, кстати, там вели особисты — вот когда им по-настоящему пригодились идентификационные жетоны из перечеканенных серебряных рублей!). Это обстоятельство обычно или игнорируется публикой («Да ладно, всем известно: приехали новгородские танки и навели там Порядок!»), или трактуется как политическая уступка Грозного «здоровым силам среди московитов» — но это значит, что такая уступка имела смысл.
Тот факт, что приговор «главным преступникам» был вынесен на основании безупречной доказательной базы и при строжайшем соблюдении процедуры, отметили все независимые иностранные наблюдатели (среди которых хватало недоброжелателей и даже прямых врагов московитов). И это при том, что народ-то тогда дружно и громко требовал «рассадить на осиновые колья всех этих упырей, поголовно» — по одному лишь факту «принадлежности к преступным организациям», и всё это «крючкотворство» с доказыванием индивидуальной вины в тот момент совершенно не встречало общественного понимания… Впрочем, мы отвлеклись от темы.
Итак, третье: last but not least — последнее по счету, но не по важности. Как уже сказано, картину процесса над Курбским историки нарисовали, суммировав целый ряд разрозненных свидетельств весьма различной надежности. Их источники — донесения и мемуары дипломатов и иных иностранцев, находившихся тогда в Московии, Новгороде и Ливонии; кое-что известно и от самих московитов (например, от дьяка посольского приказа Кураева, бежавшего в Ватикан). Но в этом списке — внимание! — нет ни одного новгородского источника; вот реально — ни единого!
Это, конечно, вовсе не означает, что имя полководца-перебежчика было в Новгороде под запретом: кости ему и до того перемывали постоянно, а реакция публики на его гибель варьировала от откровенно злорадной («Собаке собачья смерть!» — с непременным цитированием оказавшегося пророческим Иоаннова указа о том перебежчике: « Собакой потек, собацки и пропадет ») до скорее иронической (типа: «Предательство — хреновый бизнес», «Что, сЫнку, помогли тебе твои москали?»); но всё это — без никакой конкретики. Грозный же ограничился на сей предмет сухим замечанием, что Курбский «пал жертвой грызни внутри Московской клики» (против чего не возразишь, и что может трактоваться как угодно), а переписку свою завершил кратким некрологом: он-де, «оставляя в стороне предметы политические и моральные», сожалеет об утраченном корреспонденте, «чьи мысли, как к ним ни относись, были яркими и нетривиальными».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: