Сергей Синякин - Фантастическая проза. Том 1. Монах на краю Земли
- Название:Фантастическая проза. Том 1. Монах на краю Земли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издатель
- Год:2020
- Город:Волгоград
- ISBN:978-5-9233-1001-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Синякин - Фантастическая проза. Том 1. Монах на краю Земли краткое содержание
Синякин Сергей Николаевич (18.05.1953, пос. Пролетарий Новгородской обл.) — известный российский писатель-фантаст. Член СП России с 2001 года. Автор 16 книг фантастического и реалистического направления. Его рассказы и повести печатались в журналах «Наш современник», «Если», «Полдень. XXI век», «Порог» (Кировоград), «Шалтай-Болтай» и «Панорама» (Волгоград), переведены на польский и эстонский языки, в Польше вышла его авторская книга «Владычица морей» (2005). Составитель антологии волгоградской фантастики «Квинтовый круг» (2008).
Отмечен премией «Сигма-Ф» (2000), премией имени А. и Б. Стругацких (2000), двумя премиями «Бронзовая улитка» (2000, 2002), «Мраморный сфинкс», премиями журналов «Отчий край» и «Полдень. XXI век» за лучшие публикации года (2010).
Лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград» (2006) и Волгоградской государственной премии в области литературы за 2010 год.
Фантастическая проза. Том 1. Монах на краю Земли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Привыкнешь, — пообещал Дворников. — К тому же она совершенно ничем от обычной булки отличаться не будет, к тому же про говно ты сказал, а не я. Где столько этого добра напасешься, чтобы хлеба на всех хватило? Будет песок или, скажем, земля. Главное — чтобы материальное было. Одна материя переработается в другую, понял?
Они замолчали.
— Слушай, — вдруг спросил Дроздов, — так что же тогда получится? Комбайнеры не нужны, трактористы не нужны, кто работает на элеваторе — тоже не потребуются, хлебопеки, доярки, птичницы — всех получается побоку? Что же тогда народ будет делать?
— Творчеством заниматься, — авторитетно сказал Дворников. — Кто в науку подастся, кто песни петь да плясать станет, другие стихи и романы к твоему удовольствию сочинять станут. Да что там творить, путешествовать станут, мир познавать, к звездам намылятся!
— Врешь ты все, — сказал Дроздов. — Не станут они ничего сочинять, будут лопатами дерьмо в твои аппараты бросать и самогонку из него гнать. Сопьется народ со скуки!
В этот момент в комнату вошел капитан Скиба.
— Ну, славяне, — сказал он. — Седлайте коней. Последний парад наступает!
Поисковая работа однообразна и требует к себе наблюдательности и выносливости. Если с наблюдательностью у нас, можно сказать, дела обстояли удовлетворительно, то с выносливостью дело было значительно хуже. Поиск включает в себя движение по маршрутам внутри выделенного для того района, визуальное наблюдение и опрос населения по необходимым для розыска вопросам. Диверсант — не иголка в стоге сена, он обязательно привлечет к себе внимание, даже будучи в советской форме. Но одновременно нам в обязанность вменялось наблюдение за водным пространством Ладоги в пределах закрепленного района. Выполнять сразу обе задачи было намного сложнее. И еще следовало определить возможные места базирования подводной лодки, все-таки десять-пятнадцать метров длины в штаны не спрячешь, к тому же подводники должны были где-то питаться, отсыпаться и готовиться к новым выходам в озеро. А сделать это можно было в оборудованном под базу гроте или в домовладении, удобно примыкающим к озеру.
Нам достался маршрут по западному побережью озера, как раз там, где почти не было поселков. Участок был небольшой — между деревнями Тетерево и Соловьево. Всего две небольших деревушки на почти двадцатикилометровом участке побережья. Сами деревушки ничего особенного собой не представляли — десятка по три домишек, откуда, наверное, всех мужиков уже призвали. Берега Ладоги вообще не слишком заселены, и надо же именно нам досталась самая глухомань. Похоже, что кто-то заглянул в наши личные дела, хмыкнул, решил, что от этаких контрразведчиков проку будет мало, и отправил нас к черту на кулички, чтобы не путались мы под ногами у более серьезных людей.
Продпайком нас обеспечили, катер береговой охраны доставил до лесничества.
— Надежный человек, — охарактеризовали местного лесника знающие люди. — Делу революции предан, проверен на конкретных делах, в свое время принимал участие в ликвидации банды Сашки-душегуба. Староват, правда, но вы ведь его не женить едете!
Лесничему оказалось далеко за шестьдесят, но, на мой взгляд, женить его вполне можно было, лесничий даже мог позволить себе некоторую привередливость в выборе невесты. Одет он был, как все в прифронтовой зоне — в полевое обмундирование без знаков различия, да вместо кирзовых сапог носил литые резиновые, не расставался с двустволкой. Даже сев за стол, поставил ружье рядом с собой. Звали его Василием Поликарповичем Маховым, говорил он густым басом и не очень охотно.
На вопрос капитана, видел ли он в лесу кого-нибудь подозрительного, Мохов ответил отрицательно, но — как мне показалось — немного уклончиво. Тогда Скиба поставил вопрос несколько иначе: не замечал ли лесник во вверенных ему угодьях чего-нибудь странного, ведь там, капитан неопределенно мотнул головой вверх, товарища Мохова характеризовали как человека серьезного и наблюдательного. После этого вопроса лесник задумался, потом припомнил:
— Был один случай странной порубки по весне. Кто лес рубил, так и не понял. Я мужиков из Соловьево пытал, никто не признался.
— Покажешь потом — где, — сказал капитан.
— Отчего не показать? Покажу, — равнодушно пообещал лесник.
Оживился он, когда Дворников поставил на стол бутылку «сургучки».
— А вот это славно, — сказал Мохов. — Я похозяйствую, капитан?
— Ну, — с некоторым сомнением согласился Скиба, — хозяйствуй!
Стол у лесника был богатым, словно он в деревне Маслино жил. Была тут жареная зайчатина, и копченая кабанятинка, и соленые крепкие рыжики, и моченая с клюквой капуста, и домашний хлеб, который лесник выпекал сам, и прочие дары леса и озера, вроде вяленых лещей и жареной щуки.
— Богато живешь, — похвалил Скиба. — Только вот зайчатина — по сезону ли?
— Бывает, — скупо сказал лесник. — Ты, капитан, можешь не есть, раз уж такой законник, а твои подчиненные, как я погляжу, уже руками и ногами сучат от нетерпения. Подсаживайтесь, робятки, глаз жрет, да сытости не дает.
После обеда я вышел во двор.
Вокруг стоял лес — тихий, приветливый. Словно и не было вокруг войны, так, собралась хорошая компания и приехала к леснику в гости — на озере с удочками позоревать, по лесу с ружьишком пройтись или просто прогуляться по ельнику или березовой роще, грибки крепкие после первого дождя пособирать. Выпили, о жизни поговорили. Только вот надета на нас была военная форма, и с автоматами расставаться не приходилось, потому что совсем неподалеку слышались редкие раскаты канонады, словно отзвуки далекой грозы. И в лес без опаски нельзя было пойти, мало ли какие хищники по нему сейчас бродили, возможно — и двуногие.
Глава двадцатая
Прогулки по берегу
Это только в книгах Шпанова шпионов и диверсантов легко было ловить. Одно из двух: или диверсанты и шпионы были толстые и неуклюжие, вроде моего соседа Ивана Кузьмича Конкина, которого арестовали в тридцать седьмом, либо противник забрасывал в наш тыл истинных дураков, которые даже в райкоме партии при постановке на учет по фальшивому партбилету со всеми здоровались, вскидывая перед собой руку и бодро говоря: «Хайль!». На деле же все получается иначе — топчешь лесные тропки, карабкаешься по кручам скал, сбиваешь в кровь ноги, а все впустую. За день мы проходили до сорока километров. Возвращались в лесничество, у всех ноги гудели от усталости. Одно хорошо, с питанием у нас дело наладилось, и мы быстро набирали утраченный вес и силы.
Места здесь были красивые. Маршрут вдоль побережья пересекала только одна речушка — Семужья, да и на той неподалеку от устья стоял деревянный мост, который никакого стратегического значения не имел, а потому для диверсантов не представлял ни малейшего интереса. Ради осторожности мы обследовали и его, мин не обнаружили, а срублен он был на совесть, должен был простоять не один десяток лет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
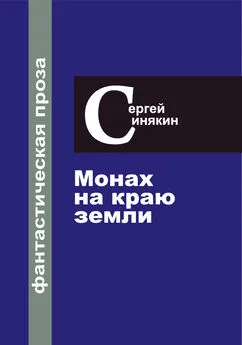
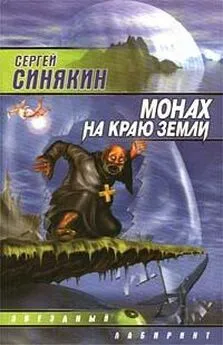

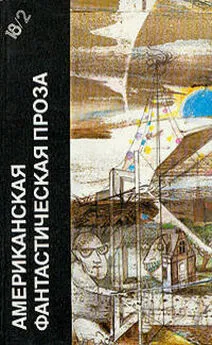

![Семен Дьячков - Прогулка в Луну [Забытая фантастическая проза XIX века. Том III]](/books/1061290/semen-dyachkov-progulka-v-lunu-zabytaya-fantastiches.webp)
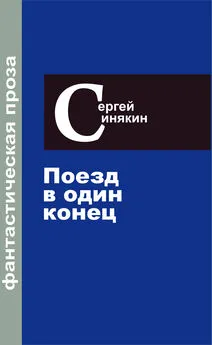
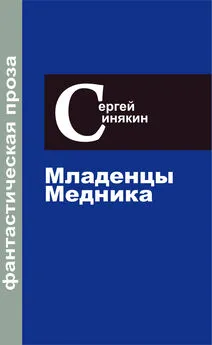
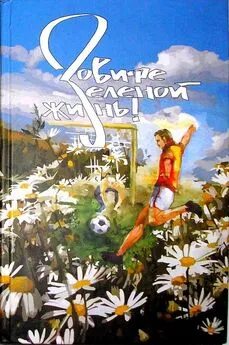
![Мариэтта Шагинян - Месс-Менд, или Янки в Петрограде [Советская авантюрно-фантастическая проза 1920-х гг. Том XVIII]](/books/1085114/marietta-shaginyan-mess.webp)
![Мариэтта Шагинян - Лори Лэн, металлист [Советская авантюрно-фантастическая проза 1920-х гг. Том XIX]](/books/1088110/marietta-shaginyan-lori-len-metallist-sovetskaya-avantyurno-fantasticheskaya-proza-1920-h-gg-tom-xix.webp)