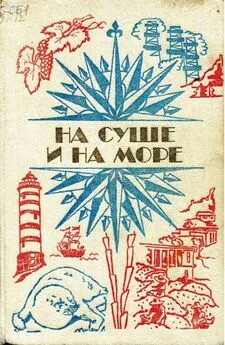Виталий Бабенко - На суше и на море 1984
- Название:На суше и на море 1984
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Бабенко - На суше и на море 1984 краткое содержание
empty-line
5
empty-line
7 0
/i/54/692454/i_001.png
На суше и на море 1984 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Из котловины виднелись только зубцы сравнительно невысоких гор, но мы знали, что за ними вздымаются настоящие «снежники», высший из которых, Ходжапирьях, достигает почти четырех с половиной тысяч метров и находится на территории «Кызылсуйского».
Три дня стояли лагерем в котловине в полной неуверенности, попадем ли в заповедник. Путешествуя по окрестностям, я поднимался до перевала и с благоговением взирал оттуда на заповедные земли: остроконечные снежники в синей дымке, голые скалы и арчовые заросли и холодный ветер на высоте… Недоступный, таинственный заповедник навевал ощущения детства, когда вся жизнь впереди была столь же манящей и загадочной, когда так волновали овеянные романтикой странствий книги, и среди них — «Земля Санникова».
— Ну что, Жора, попадем мы или нет? — риторически спрашивал я начальника экспедиции Георгия Федоровича Колюха, заместителя директора Ташкентского музея природы, который все три дня ходил с озабоченным видом, меряя взглядом крутой подъем горной дороги, словно изобретая дьявольски хитрый план, благодаря которому мы по щучьему велению и по всеобщему хотению перенесемся вместе с экспедиционным багажом через перевал.
— Да кто ж его знает! Посмотрим. Человек предполагает, а бог располагает, — задумчиво говорил он.
А я вспоминал геологов: они уже несколько раз навещали нас на стоянке — пили чай, беседовали о превратностях судьбы, а потом небрежно преодолевали заветный подъем в грозно урчащем «Урале», нагруженном доверху материалами для геологической партии, которая располагалась рядом с перевалом. И в образе бога мне представлялся не кто иной, как начальник партии Халим Хакимович, интеллигентный человек в очках, который, кажется, обещал…
Не выходил из головы диалог с директором заповедника в Яккабаге. Хитро прищуривая черные веселые глаза, Салим Содыкович тонко расписывал достоинства и красоты руководимого им хозяйства:
— На 27 километров тянется территория по саю Кызылсу, животный мир очень богатый —26 видов млекопитающих: кабан есть, горный козел, снежный барс есть, медведь тянь-шаньский белокоготный, дикобраз, сурок Мензбира, туркестанская выдра, рысь… Много чего есть. Птиц тоже много разных — 81 вид. Только вот рыба одна — маринка, потому что вода в Кызылсу очень холодная. А красота какая — вы такой никогда не видели! И арчи много сохранилось у нас — пять тысяч га на склонах, сплошная арча!
Да, арча — это главное, потому и называется заповедник «горно-арчовый». Древовидный можжевельник, очень медленно растущее вечнозеленое дерево, скрепляет своими корнями почву на склонах, это основа и опора здешней экосистемы.
— Пещера Тамерлана у нас и другие пещеры в горах, — продолжал Салим Содыкович. — А еще окаменевшие следы динозавра, слыхали, наверное? Есть, что посмотреть, это я вам обещаю, не пожалеете. Ну а как там поживает Москва?
И, улыбаясь, он смотрел на меня в ожидании ответа, но для меня Москва в этот момент была далекой, а недоступные пока земли заповедника приобретали в воображении все более яркий романтический ореол.
Что мне особенно нравилось здесь, в преддверии заповедника, так это упомянутый уже эремурус Ольги. На толстых, прочных стеблях высотой около полуметра тянулись к небу нежно-розовые, тонко благоухающие соцветия из сотен цветочков, каждый из которых ювелирно красив, изящен. Их очень любили золотисто-зеленые бронзовки, они неспешно копались в душистом переплетении лепестков, еще больше усиливая ощущение чего-то изысканного, роскошного, драгоценного…
Наконец судьба улыбнулась нам. Утром четвертого дня Салим Содыкович забрал меня с вещами и доставил в заповедник на личном «уазике», а следом вся экспедиция была погружена на «Урал» и доброй волей Халима Хакимовича и усилиями веселого шофера Карима перенесена на плоский и тощий щебеночный берег реки Кызылсу на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. Сразу за палатками вздымалась почти неприступная скальная стена, на верху которой виднелись крошечные домики заброшенного кишлака Ташкурган.
Да, вот этот Ташкурган заслуживает отдельного рассказа.
Начался долгожданный путь на «уазике», после жары низины холодный ветер перевала заставил меня накинуть штормовку, а потом быстрый спуск, и перед нами выросла сначала гигантская скала, похожая по форме на мавзолей, из-под которого вытекал целебный, по уверениям Салима Содыковича, источник «Оба-зим-зим» (точно так же называется целебный источник в окрестностях Мекки), а затем, когда мы обогнули гору, перед нами открылось и вовсе уж нечто фантастическое.
Закатное солнце освещало скопище низких глинобитных домиков, оно делало их прямо-таки золотыми, над ними высились голубоватые остроконечные снежники, но главное было даже не это, не броская красота пейзажа. Главное то, что кишлак был абсолютно пустынен — ни человека! — и это вселяло тревогу и навевало мысли о бренности человеческого существования, будило в памяти воспоминание о прочитанном — о загадочных Андах Южной Америки, где путешественники открывали (и открывают до сих пор) города инков…
Удивительно удачно с эстетической точки зрения расположен кишлак Ташкурган — среди высоких гор, на плоском зеленом плато, под скальным обрывом которого беснуется холодная Кызылсу.
— Сказочный заброшенный город, — сказал я, не в силах скрыть восхищения перед мрачноватой картиной. — Здесь, что же, не живут люди?
— Жили, — по обыкновению улыбаясь, ответил Салим Содыкович. — Выселили в 75-м году. Я сам переселением руководил. В Каршинскую степь переселили людей, в хорошие дома. Что, красиво, да?
Да, было красиво даже тогда, когда мы спустились в кишлак и остановились перед одним из домиков, на котором вывеска, казавшаяся столь неуместной, свидетельствовала, что именно здесь находится контора заповедника «Кызылсуйский».
— Триста двадцать четыре семьи было, около двух тысяч жителей, — добавил директор. — В отрыве от всех жили, понимаете. И арчу рубили нещадно — видите, склоны облысели вокруг. Тут уж ничего не поделаешь: или кишлак, или заповедник.
Но и сам кишлак был теперь как прекраснейший заповедник — здесь даже две мечети сохранились двухсот-трехсотлетней давности, с плоскими крышами, деревянными колоннами, сильно облупившейся эмалевой росписью. Когда-то по этим местам проходил знаменитый Шелковый путь — путь купцов и торговцев шелком, коврами, всевозможными экзотическими изделиями и пряностями с Востока. Караваны двигались с юга на север и с севера на юг, здесь была остановка, отдых, потому и вырос кишлак Ташкурган. Редкие селения удостаивались чести иметь хотя бы одну мечеть, а здесь целых две. Законсервировать бы разрушающиеся дома, отреставрировать мечети, сделать Ташкурган неотъемлемой частью заповедника «Кызылсуйский» — вот был бы экзотический музей!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: