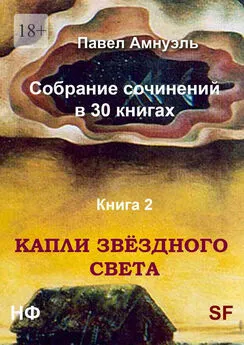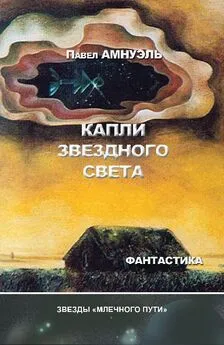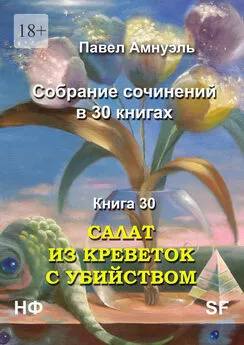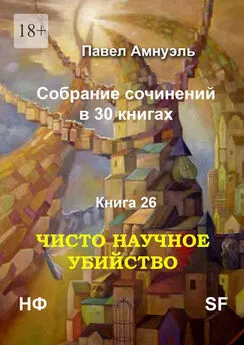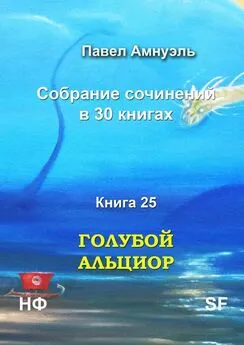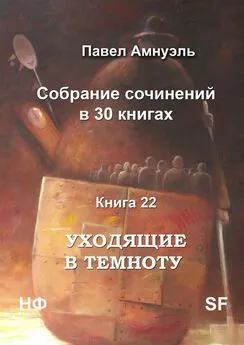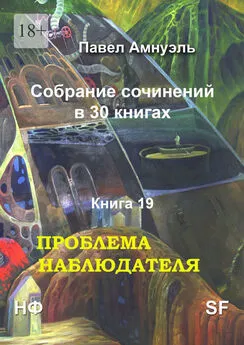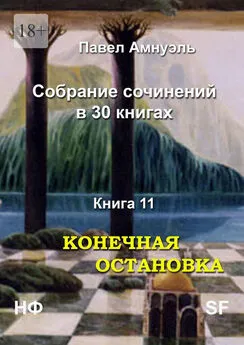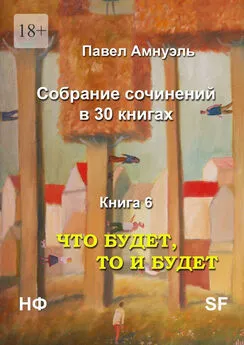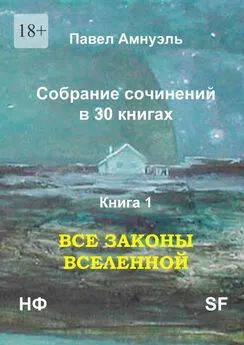Павел Амнуэль - Капли звёздного света. Собрание сочинений в 30 книгах. Книга 2
- Название:Капли звёздного света. Собрание сочинений в 30 книгах. Книга 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005615954
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Амнуэль - Капли звёздного света. Собрание сочинений в 30 книгах. Книга 2 краткое содержание
Капли звёздного света. Собрание сочинений в 30 книгах. Книга 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так потом и произошло.
Был ли Генрих диссидентом? Нет, конечно. То есть он прекрасно понимал, что представляла собой советская власть и что она могла сделать с человеком (уж этот опыт у него был). У Генриха была цель в жизни: создать и распространить теорию решения изобретательских задач. Научить людей думать свободно, раскованно – не хаотично, а в избранном направлении. Много позднее Генрих создал (с участием Игоря Верткина) ЖСТЛ – жизненную стратегию творческой личности. И первой задачей творческой личности должен быть, по мнению Генриха, выбор Достойной Цели. Достойная Цель у Генриха была, и он шел к ней, не размениваясь ни на какие другие цели. В том числе – на попытки литературными средствами изменить социалистическое общество советского типа.
В фантастике у Генриха была та же цель – научить читателей думать. Думать раскованно, широко. О будущем. Да, о коммунистическом – Альтов не был антикоммунистом и не считал коммунизм ложной целью. Цель-то достойная, но советский путь – дорога не к коммунизму, а совсем в другую сторону. Мы много говорили о том, что в советской фантастике есть произведения о коммунистическом обществе, есть сатирические произведения о «загнивающем империализме Запада», но нет романов (даже рассказов) о переходных годах, о времени, когда коммунизм все еще не построен, и о том, как именно его будут строить завтра и через сто лет. Какие будут проблемы на пути? Как их будут решать?
Странно это или нет, но в советской фантастике я не знаю НИ ОДНОГО произведения о времени МЕЖДУ «развитым социализмом» и коммунизмом. Похоже, никто не знал, как это может произойти – например, процесс отмирания государства. А время, когда начнут отменять деньги? Как это будет происходить? Какими в это время будут люди? Какими станут отношения? Как конкретно будет происходить отмирание капитализма?
Братья Стругацкие писали, что в коммунизме будут жить «лучшие советские люди», те, кто живут среди нас и сейчас, интеллигенты вроде тех, что были описаны в повести «Понедельник начинается в субботу». А добиться, чтобы все люди стали такими, можно, по Стругацким, воспитанием. Нужна Высокая Теория Воспитания. Нужны Учителя – такие, как Сидоров в «Полудне». И если всех людей правильно воспитать – тогда и коммунизм можно будет ввести.
На мой взгляд – уже тогда я был в этом уверен – никакая теория воспитания не поможет создать человека эпохи коммунизма. Как говорили те же Стругацкие, «человек – это жирная волосатая обезьяна» с налетом воспитанности и образованности. А «волосатую обезьяну» не воспитаешь. И потому коммунизм невозможен. Высокая Теория Воспитания – чистой воды идеализм. Красиво сказано, но действовать не будет. Это больше походит на лысенковщину – передачу приобретенных признаков, – а не на теорию эволюции. Для коммунизма нужен совеем другой человек. Эволюционно другой. Генетически другой. На Земле таких или нет вообще, или это мутанты, которые не выживают в нашей реальности, потомства не оставляют, и «волосатая обезьяна» беспрепятственно продолжает путь в будущее.
Может, когда-нибудь в помощью генетического конструирования удастся создать новый, коммунистический тип человека, хомо футурус. Если положиться на обычную эволюцию, на воспитание, на научный и технический прогресс – коммунизма не будет никогда.
Может, об этом надо было написать роман? О генетическом реконструировании человека? Не коммунизм для человека, а человек для коммунизма. Но такой роман тоже не был написан. В советское время его опубликовать было невозможно по понятным причинам. А в постсоветское это никого уже не интересовало…
С советской властью «эстетические разногласия» были, насколько я могу судить, не у одного Синявского, а у всей так называемой советской творческой интеллигенции. Выражалось это по-разному. Убежденные диссиденты выходили на площадь, протестовали против преступлений советской власти, сидели в тюрьмах, лагерях, умирали (как Марченко) или были высланы на Запад (Солженицын, Некрасов, Галич, Войнович и другие). Но основная масса оставалась вполне пассивной – пример активных диссидентов был у всех перед глазами, и немногие хотели жертвовать своими карьерами, а то и жизнями, ради безнадежного, как многие считали, дела. Советская власть была сильна, и, казалось, что это – на века. Не до коммунизма, конечно. В коммунизм как достижимую цель в семидесятых верили только самые наивные – честно говоря, я таких вообще не встречал.
В начале семидесятых я побывал в Тбилиси на астрономической конференции. На обратном пути в аэропорт увидел над дорогой «растяжку» с обычным для тех лет лозунгом: «НАШ ПУТЬ – К КОММУНИЗМУ!». Под этой растяжкой висела еще одна, тоже с обычным лозунгом: «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» Нормальное пожелание по дороге в аэропорт. Но обе растяжки вместе производили впечатление не то чтобы странное, но именно такое, каким было настроение у многих советских людей. Ваш путь – к коммунизму? Да, пожалуйста, только без нас. Счастливого пути.
Все мы принадлежали к самой многочисленной в те годы популяции «кухонных диссидентов»: обсуждали глупости и мерзости советской власти в узком кругу, но среди своих не сдерживались, высказывались вполне определенно. Насколько помню, ни у кого из нас не было страха, что кто-то мог «заложить». Никогда никого из нас (кроме Генриха – но то был особый случай) вездесущий КГБ не трогал, не вызывал, не беседовал. Читали мы, конечно, и «Архипелаг ГУЛАГ», и Синявского с Даниэлем, слушали Галича.
Альтов как-то рассказал, что посетил его некий гражданин, представился сотрудником госбезопасности (документ предъявил) и стал выспрашивать, читает ли Генрих запрещенную литературу. Отпираться Генрих не стал, сказал, что да, читает, и не только Солженицына (о котором спрашивал гебешник). И что дальше? Ничего. «А у кого вы эту литературу берете?» – «А это не ваше дело!» – «Но кто-то же…» – «Давайте поговорим на другую тему»…
Побеседовали, распрощались, и больше, насколько я знаю, «органы» к Альтову не цеплялись.
В Баку, впрочем, органы в те годы вообще были достаточно либеральны. «Запрещенную» литературу читали все мои знакомые, но никого за это не посадили, не выслали, и особых проблем ни у кого не было.
«Эстетические разногласия» у Генриха были не только с советской властью, но и с многими коллегами-фантастами, в частности, с братьями Стругацкими. Социальная фантастика – такая, какой ее видели Стругацкие, – была, по мнению Генриха способна лишь навредить Достойной Цели, а не приблизить ее. Стругацкие (и далеко не только они!) говорили, что писатель должен ставить вопросы, а решать проблемы, отвечать на вопросы – дело общества. Генрих полагал, что для фантаста задавать вопросы – мало, он должен пытаться давать ответы. Не кукиши в кармане – это ведь не ответы на вопросы о том, что делать с бюрократией, с «перегибами» и недостойными целями. Кукиши в кармане – «Улитка на склоне», «Сказка о Тройке» – прекрасно написаны, всем понятны их смыслы, в том числе и цензорам. Результат – по словам Генриха – будет не тот, что советская власть изменится, надеяться на это не было никаких оснований. Результат – конкретно для фантастической литературы – будет лишь в том, что, обжегшись на молоке, цензоры начнут дуть на воду. «Криминал» будут искать под микроскопом в любом фантастическом произведении, и в результате фантастику станет невозможно публиковать. Разве что самые убогие произведения, в которых при всем желании «криминал» найти невозможно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: