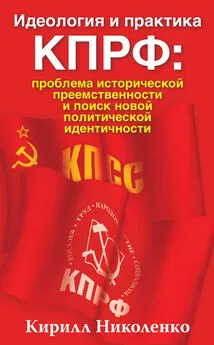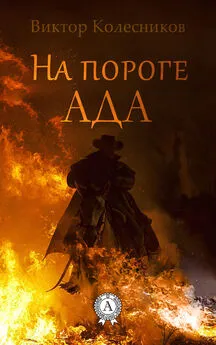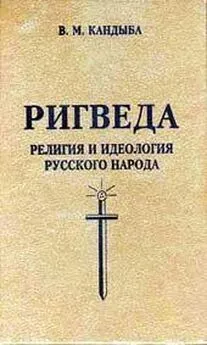Виктор Шнирельман - «Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма
- Название:«Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0342-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Шнирельман - «Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма краткое содержание
«Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В последней трети XIX – начале XX в. европейское общественное мнение было охвачено страхами по поводу якобы близившейся «дегенерации», а американцы были встревожены массовой иммиграцией из бедных регионов Европы. Тогда-то впервые и прозвучали призывы к «спасению арийской (нордической) расы», до сих пор соблазняющие «белых расистов». В этом контексте особую популярность получили социодарвинизм, евгеника, а затем и выросшая из нее «расовая гигиена». Любопытно, что именно тогда впервые выявилась тенденция перерастания «классового расизма», направленного против эксплуатируемых масс, в классический расизм, отвергающий инокультурного «Другого» как якобы «иной биологический вид». В обоих случаях расовые идеологи апеллировали к «закону естественного отбора», причем популярный евгенический дискурс черпал свою лексику из сельскохозяйственного языка зоотехники [273] MacMaster N. Racism in Europe, 1870–2000. Basingstoke, Hampshire: Palgrave, 2001. P. 33–57.
. Наиболее активным пропагандистом таких взглядов был немецкий анатом Эрнст Геккель, опубликовавший немало книг, популяризировавших дарвинизм как универсальную науку, якобы дававшую ответы на все злободневные вопросы окружающей действительности [274] Gasman D. The scientific origins of National Socialism. New Brunswick; London: Transaction Publishers, 2004.
. Таким образом, особенно опасным расовый подход стал в последней трети XIX – начале XX в., когда он полюбился немалому числу европейских и американских политиков, стал мощным идеологическим орудием в руках радикальных националистов и начал неизменно сопровождать сложные процессы индустриализации и урбанизации [275] MacMaster N. Racism in Europe, 1870–2000. P. 5–114.
.
В тот период расовая доктрина считалась легитимной и поддерживалась наукой. Поэтому неудивительно, что еще в конце XIX в. расовую риторику подхватили некоторые восточноевропейские меньшинства (румыны, чехи, словаки, поляки), пытавшиеся тем самым противостоять ассимиляции, угрожавшей им со стороны доминировавших немецкой и венгерской культур. В этом контексте термины «раса» и «народ» использовались как синонимы, а апелляция к расовой теории призвана была служить делу борьбы за (этно)национальное освобождение [276] Turda M. The idea of national superiority in Central Europe, 1880–1918. Lewiston, N. Y.: The Edwin Mellen Press, 2005. P. 2, 144–157.
. По той же причине тогда к расовой теории обращались и отдельные еврейские интеллектуалы, включая некоторых сторонников идей сионизма [277] Mosse G. L. Toward the final solution: a history of European racism. New York: Harper and Row, 1978. P. 122–126; Bloom E. What ‘The Father’ had in mind? Arthur Ruppin (1876–1943), cultural identity, Weltanschauung and action // History of European Ideas. 2007. Vol. 33. № 3. P. 330–349. Но, как полагал Моссе, среди ранних сионистов сторонники расовой идеи были в меньшинстве.
.
В первой половине XX в. те же веяния затронули и Индию, но развитие индийского национализма привело к расколу в среде местных политических лидеров. Те из них, кто ориентировался на ислам, протестовали против национализма и расовой идеи как ведущих к распаду общества; зато их больше привлекала идея уммы , способствующая исламской солидарности. Те же, кто так или иначе был связан с индуизмом, с энтузиазмом принимали концепцию национализма и, опираясь на работы европейских востоковедов, пытались сконструировать «высшую индусскую (арийскую) расу», видя в ней действенный рычаг борьбы с колониализмом. Некоторые из них разделяли фашистские идеи, популярные в те годы в Европе. В то же время идея «чистоты расы» вызывала у них смущение, и они пытались развивать свою собственную «расовую теорию», свободную от нее. Для них главным критерием членства в «нации» была культура, а не биологическое родство. Поэтому, в их понимании, «раса» сливалась с «этнической нацией», и их национализм имел «этническое» лицо [278] Thapar R. The theory of Aryan race and India: history and politics // Social Scientist. 1996. Vol. 24. № 272–274. P. 9–10; Majeed J. Pan-Islam and ‘deracialisation’ in the thought of Muhammad Iqbal // Robb P. (ed.). The concept of race in South Asia. Delhi: Oxford Univ. Press, 1997. P. 304–326; Jaffrelot Ch. The idea of Hindu race in the writings of Hindu nationalist ideologues in the 1920s and 1930s: a concept between two cultures // Ibid. P. 327–354. О постепенном проникновении европейских идей в Индию см.: Robb P. South Asia and the concept of race // Robb P. (ed.). The concept of race in South Asia. Delhi: Oxford Univ. Press, 1997. P. 28–42. По словам Робба, термин «индиец» вначале был тесно связан с понятием «расы» и только позднее стал относиться к «нации» (Ibid. P. 32).
. Немалую роль в этом сыграли колониальные этнологи, и, по справедливому замечанию Сюзан Бейли, «важно признать, с какой огромной силой этнологические концепции расы воздействовали на лидеров националистических организаций в Индии, да, впрочем, и во многих других частях колониального мира» [279] Bayly S. Caste and «race» in the colonial ethnography of India // Robb P. (ed.). The concept of race in South Asia. Delhi: Oxford Univ. Press, 1997. P. 203.
.
Вторая волна расиализации дискриминированных меньшинств пришлась на вторую половину XX в., причем тогда это нередко происходило по их собственной инициативе, связанной с «борьбой за идентичность». В частности, в 1990-х гг. некоторых афроамериканских интеллектуалов вдохновляла «гипотеза меланина», которая, возвращая из небытия давно забытую викторианскую парадигму и усиливая ее модными оккультными представлениями, объединяла их всех в единую солидарную «расу» и объявляла о «расовом превосходстве черных» [280] Об этом см.: Alland A. Race in mind. P. 126; Gilroy P. Between camps: nations, cultures and the allure of race. London: Routledge, 2004. P. 256–260.
. По иронии это происходило тогда, когда западная наука пришла к идее отрицания рас как биологической реальности [281] Wieviorka M. The arena of racism. London: Sage, 1995. P. 24.
.
Между тем попытки научно обосновать расовый подход к истории неизбежно оканчивались конфузом, ибо отчетливо демонстрировали ярко выраженный субъективизм своих авторов. Например, если немецкие расовые теоретики уверенно связывали германскую расу с «арийцами», то известный французский антрополог Арман де Катрфаж столь же яростно доказывал, что пруссаки были носителями финского (монголоидного, по его мнению) и славянского генетического наследия. В свою очередь, другой видный французский антрополог Поль Брока, соглашаясь с тем, что французы в массе своей были «короткоголовыми», настаивал на их умственном превосходстве над «длинноголовыми» германцами. При этом он упорно не замечал, что и последние в большинстве своем отличались «короткоголовостью» [282] Benedict R. Race and racism. P. 129–130; MacMaster N. Racism in Europe. P. 40.
. Наконец, политика нацистской Германии конца 1930-х – начала 1940-х гг. продемонстрировала всю прагматичность расового вопроса для ее лидеров, готовых включать в категорию «арийцев» всех, кто становился их союзниками [283] Benedict R. Race and racism. P. 136–137. В ответ американцы организовали в 1943 г. передвижную выставку, где демонстрировались образцы «идеальных арийцев», высоких длинноголовых блондинов, явно непохожих на Гитлера, Геббельса или Геринга. Об этом см.: Jacobson M. F. Whiteness of a different color. P. 106–107. О расхождении облика нацистских вождей с «арийским идеалом» см.: Плисецкий М. С., Смулевич Б. Я. Расовая теория – классовая теория // Антропологический журнал. 1934. № 1/2. С. 21–22.
.
Интервал:
Закладка: