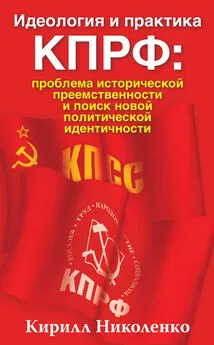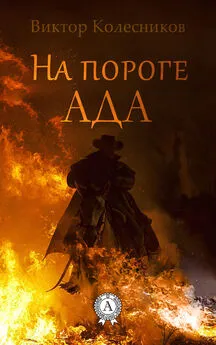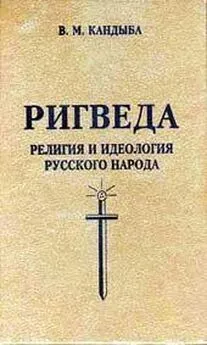Виктор Шнирельман - «Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма
- Название:«Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0342-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Шнирельман - «Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма краткое содержание
«Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Наконец, в последние годы некоторые авторы жестко связывают расизм с самой структурой капиталистических отношений и склонны трактовать его как неотъемлемую часть эпохи модерна, если не самую суть ее, ибо современный капитализм, с одной стороны, вырос из колониализма и нещадной эксплуатации рабского труда, а с другой, был в своем становлении связан с идеей национального государства и экономического протекционизма, задававших жесткие рамки для разграничения «своих» и «чужих». Поэтому, как отмечает Зигмунт Бауман, «модерн сделал расизм возможным. Он же создал и потребность в расизме» [235] Bauman Z. Modernity and the Holocaust. Ithaca, N. Y.: Cornell Univ. Press, 2000. P. 61.
. А в Холокосте он предлагает видеть, «хотя и редкий, но важный и надежный эксперимент, демонстрирующий скрытые возможности современного общества» [236] Ibid. P. 12.
.
Речь идет о всевозможных системах классификаций, призванных внести устойчивый порядок и структурировать сложный современный социально-культурный мир, представляя расовые, этнические и национальные общности «естественными образованиями» и сводя все их разнообразие к определенной иерархической схеме. В условиях становления и укрепления национальных государств расизм создавал общественное единство, вводя жесткие правила причастности к такому единству и исключения из него, а также оправдывая социальное неравенство. Этому и призваны были служить иерархические классификации, которыми успешно пользовалась разветвленная бюрократия, превращавшая дискриминацию в рутинную процедуру. В таком контексте расизм порой смыкается с национализмом и иной раз получает поддержку государства. Кроме того, в последнее время некоторые праворадикальные движения выступают под лозунгом «расового национализма» [237] Miles R. Recent Marxist theories of nationalism and the issue of racism // The British Journal of Sociology. 1987. Vol. 38. № 1. P. 24–43; Bauman Z. Modernity and the Holocaust. P. 56–82; Rattantsi A. «Western» racisms, ethnicities and identities in a «postmodern» frame // Rattansi A., Westwood S. (eds.). Racism, modernity and identity: on the Western front. Cambridge, UK: Polity Press, 1994. P. 23–26, 36–38, 48–52; Harrison F. V. The persistent power of «race» in the cultural and political economy of racism // Annual Review of Anthropology. 1995. Vol. 24. P. 52; Swain C. M. The new White nationalism in America. Its challenge to integration. Cambridge: Cambridge Univ Press, 2002; Lentin A. Racism and anti-racism in Europe. London: Pluto Press, 2004. P. 35–71; Brodkin K . Global capitalism; Mullings L. Interrogating racism: toward an antiracist anthropology // Annual review of anthropology. 2005. Vol. 34. P. 671–673.
.
Поэтому Али Раттанси с тревогой замечает, что «мобилизующая сила идеи нации сыграла главную роль в формировании новейших этнонационально-культурных расизмов и в новых войнах конца XX – начала XXI в., а также в разных контекстах в новейших расиализациях типа индуистского национализма в Индии» [238] Rattantsi A. The uses of racialization: the time-spaces and subject-objects of the raced body // Murji K., Solomos J. (eds.). Racialization: studies in theory and practice. Oxford: Oxford University Press, 2005. P. 287.
. Он же, вслед за Бауманом, доказывает, что такая крайняя форма расизма, как нацистский геноцид, была порождена именно технологиями эпохи модерна [239] Rattansi A. Racism. P. 59–61.
. По словам Н. Макмастера, «наиболее злобные и универсальные формы расизма были спутниками эпохи модерна и “прогресса”» [240] MacMaster N. Racism in Europe. P. 4.
. Мало того, по мнению некоторых авторов, «новая расовая идеология теснейшим образом связана с гегемонистским проектом неолиберализма… Она включает прежние представления, но говорит языком личных заслуг, свободы выбора и культурных различий» [241] Mullings L. Interrogating racism. P. 679.
. Поэтому ряд авторов рассматривают расизм как норму, характерную для современной Европы, и как своеобразную форму социального контроля, устанавливающую социальную и экономическую иерархию, связанную с неравным доступом к жизненно важным ресурсам. При этом, по их словам, «расизм служит во благо немногим, порабощая большинство» [242] Hazekamp J. L., Popple K. Racism, youth policy and youth work in Europe: a fragmented picture // Hazekamp J. L., Popple K. (eds.) Racism in Europe: a challenge for youth policy and youth work. London: UCL Press, 1997. P. 10–11.
.
В то же время, как подчеркивает Дж. Фредриксон, откровенно расистские режимы были в XX в. скорее исключением из правила, чем закономерностью современного развития [243] Fredrickson G. M. Racism: a short history. Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, 2002. P. 105.
. Отталкиваясь от идей Луи Дюмона, М. Вьевьорка считает, что расизм не столько является «болезнью» эпохи модерна, сколько отражает сложность перехода от традиционного коллективистского общественного устройства к эпохе индивидуализма [244] Wieviorka M. The arena of racism. London: Sage, 1995. P. 28–30.
. Вместе с тем, как доказывают другие авторы, в современной рыночной экономике, заинтересованной в свободном передвижении рабочей силы, одновременно проявляется и тенденция к антирасизму [245] Miles R. Explaining racism in contemporary Europe // Rattansi A., Westwood S. (eds.). Racism, modernity and identity: on the Western front. Cambridge, UK: Polity Press, 1994. P. 207; Baker O. The managing diversity movement: origins, status, and challenges // Bowser B. P., Hunt R. G. (eds.). Impacts of racism on White Americans. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1996. P. 139–156; Bonnett A. Anti-racism. London: Routledge, 2000. P. 73–82.
. Мало того, некоторые специалисты демонстрируют, что расиализация может иметь не только негативные, но и позитивные стороны. В постструктуралистскую эпоху стало ясно, что в определенных контекстах «расовая метка» становится привлекательной, порождает положительные эмоции и даже наделяет определенным авторитетом. Например, белые подростки, покоренные спортивными успехами чернокожих, могут сделать их своей референтной группой и пытаться равняться на них [246] Nayak A. White lives // Murji K., Solomos J. (eds.). Racialization: studies in theory and practice. Oxford: Oxford University Press, 2005. P. 145–146, 155–158.
. То же самое в свое время происходило с джазом, а сегодня происходит с рэпом [247] См., напр.: Ware V., Back L. Out of Whiteness: color, politics and culture. Chicago: The Univ. of Chicago Press, 2002. P. 227–270.
.
П. Тэйлор различает три стадии становления современного расизма: натурализацию социальных различий на первом этапе, их рационализацию на втором и политизацию на третьем. Первую он связывает с появлением в конце XV в. представления о человеческой вариативности в пределах все еще единой категории, вторую – с представлением о непреодолимых социальных барьерах, якобы задававшихся расой и определявших извечное расовое неравенство, а третью – с осознанием социальных оснований расовой классификации. Переход от первого этапа ко второму знаменует сочинение Иммануила Канта «О различных человеческих расах» (1775) и выступление Томаса Джефферсона в 1784 г. о состоянии дел в Вирджинии. Третий этап начался, по мнению Тэйлора, в 1923 г., когда Верховный суд США дистанцировался от «научного расизма» [248] Taylor P. C. Race. P. 43, 69, 73–75.
.
Более четкую периодизацию дает, основываясь на книге М. Джекобсона [249] Jacobson M. F. Whiteness of a different color. European immigrants and the alchemy of race. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998.
, Врон Уэар, придающая большое значение законодательному утверждению расизма. По ее схеме, первая эпоха началась с закона о натурализации (1790), наделившего правами на нее только «свободных белых людей». Вторая эпоха охватывает 1840–1924 гг., когда ограничительное законодательство не только господствовало, но находило опору в «научном расизме». Затем наступила новая эпоха, и различные группы, прибывшие в США из Европы, сплотились в монолитную «белую расу» [250] Ware V., Back L. Out of Whiteness: color, politics and culture. Chicago: The Univ. of Chicago Press, 2002. P. 23.
.
Интервал:
Закладка: