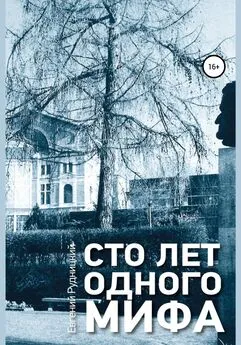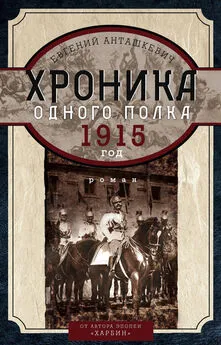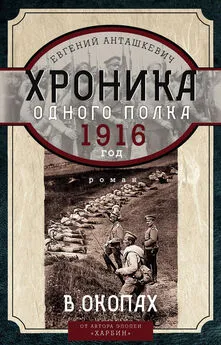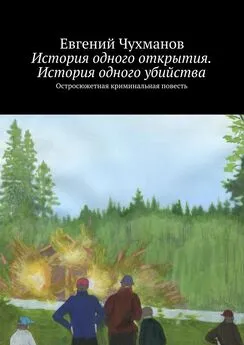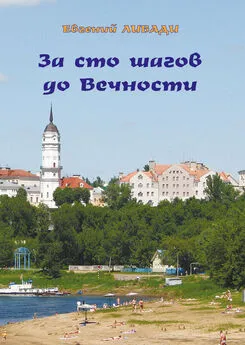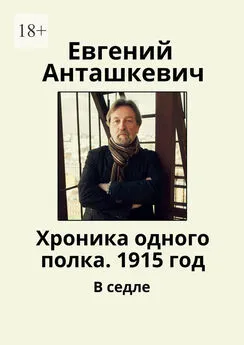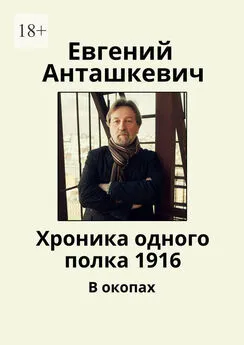Евгений Рудницкий - Сто лет одного мифа
- Название:Сто лет одного мифа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Рудницкий - Сто лет одного мифа краткое содержание
Сто лет одного мифа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Еще в Магдале Минна выразила ему свое недовольство – вполне естественное, если учесть, что ее муж пожертвовал своим положением ради бессмысленного участия в мятеже, – и они тогда расстались не лучшим образом. Однако теперь, когда Вагнер оказался в Цюрихе один, ему требовалось женское участие, и в своих письмах он стал убеждать Минну как можно скорее переехать к нему. К тому же он чувствовал, что в ближайшее время не сможет приступить к сочинению музыки: ему было необходимо высказать своему окружению неудовлетворенность современным состоянием музыкального театра. Поэтому он уже в июле написал трактат Искусство и революция , который должен был в какой-то мере объяснить его обращение к политике эстетическими потребностями художника. Жена, разумеется, не могла понять этих его устремлений, но оставаться в Дрездене, где ее положение было достаточно нелепым, тоже не было никакого смысла, поэтому она довольно легко поддалась на уговоры и в начале сентября прибыла вместе с Натали, болонкой Пепсом и попугаем Папо в Швейцарию, где заждавшийся муж встретил ее на пристани в Роршахе. Однако встреча была не слишком радостной: сойдя с трапа, Минна предупредила мужа, что в случае его недостойного поведения она сразу же вернется обратно. Ее настороженность можно понять; тем не менее такая резкость не свидетельствует о ее прозорливости. Кроме того, Вагнера сразу же поразило, как жена постарела за прошедшие месяцы.
Брошюра Искусство и революция пользовалась у читателей успехом (тема в конце сороковых годов была весьма актуальной), и Вагнер получил за нее довольно приличный гонорар. За ней последовала одна из самых знаменитых работ изгнанника – Произведение искусства будущего ; в ней Вагнер выдвинул положенную в основу его новой эстетики идею «совокупного произведения искусства» (Gesamtkustwerk). По его мысли, такое произведение должно объединить в себе три основных вида искусства – танец, поэзию и музыку; все они органично соединялись в греческой трагедии, но, разделившись на самостоятельные виды, пришли вследствие этого в упадок. Впрочем, Вагнер говорит не столько о самом произведении искусства, сколько об общности и солидарности творцов, о «гении общности», который создаст великолепное искусство будущего. Согласно автору, соединившись вновь, три вида искусства также представят «совместное творчество людей будущего».
Помимо материальной помощи Листа и гонораров от публикации теоретических работ к концу года появилась надежда на материальную поддержку Юлии Риттер, пришедшей за три года до того в восторг во время дрезденской премьеры Тангейзера , на которой она присутствовала с шестнадцатилетней Джесси Лоссо (в то время еще Джесси Тейлор). Мать Джесси, Энн Тейлор, богатая вдова английского адвоката, вызвалась добавить к сумме в 500 талеров, ежегодно выплачиваемой Вагнеру ее знакомой, еще 300, что могло бы в общей сложности составить довольно скромное, но достаточное на жизнь при умеренных расходах пособие. Между тем не прекращавший пропагандировать творчество своего друга Лист настаивал, чтобы тот продолжил свое завоевание Парижа, и Вагнеру пришлось обратиться к сюжету о кузнеце Виланде, поскольку с Зигфридом он, разумеется, не мог расстаться и приберегал его для себя. В эскизе нового либретто речь идет о князе тьмы и враге свободы Нейдинге, который взял обманом в плен искусного кузнеца Виланда и подрезал ему сухожилия на ногах, чтобы тот не мог от него уйти, однако мастер выковывал себе стальные крылья и на них улетел, прихватив с собой девушку-лебедя Шванхильду, залогом любви которой к кузнецу служит подаренное ею кольцо. В этом либретто содержались некоторые излюбленные мотивы Вагнера, но его символика была значительно проще, чем в Смерти Зигфрида и даже в Лоэнгрине , и сюжет, по мнению автора, лучше соответствовал вкусам парижской публики. Подготовив эскиз либретто, он снова прибыл в Париж 31 января 1850 года.
Гранд-опера отклонила проект создания Гюставом Ваэзом совместного с Вагнером либретто: руководство театра не испытывало доверия к Ваэзу, который к тому времени еще не сочинил ничего самостоятельно и работал только в сотрудничестве со Скрибом. А у Скриба было достаточно заказов французских композиторов, и он не собирался терять время на Вагнера, слабо владевшего французским и не имевшего опыта в области французской оперы. Поэтому на сотрудничество со Скрибом у Вагнера не было никакой надежды, и очередной визит в Париж оказался напрасной тратой времени, тем более что по непонятным причинам вдруг исчез Беллони, и Вагнер лишь понапрасну прождал его в течение шести недель. Однако в это время произошло событие, определившее дальнейший настрой Вагнера и давшее очередной толчок развитию антисемитской составляющей его мифа.
В то время в Париже шумным успехом пользовалась новая (поставленная в апреле 1849 года) опера Мейербера Пророк . В свой предыдущий приезд Вагнер не смог посетить эту постановку, поскольку попал в межсезонье, однако на этот раз он не упустил представившуюся возможность и в марте, то есть почти через год после премьеры, побывал на спектакле, который поразил его до глубины души. Впоследствии он писал в Моей жизни о «пошлых руладах» в колоратурной арии матери главного персонажа (к слову сказать, эту партию Мейербер создавал, имея в виду Полину Виардо), которые настолько вывели его из себя, что он сбежал, не дождавшись конца представления. Возмущение передового немецкого композитора типичными для итальянского бельканто элементами вполне можно понять, но в письме к дрезденскому другу Улигу, написанном 13 марта, то есть вскоре после посещения постановки, он о своем возмущении ничего не сообщил. Как раз наоборот: «…я увидел в первый раз и пророка – пророка нового мира, я почувствовал себя счастливым и возвышенным, отказался от всех подстрекательских планов, которые показались мне теперь такими безбожными, ибо все чистое, благородное и истинное, все божественно человеческое полнокровно живет в блаженном настоящем… Когда приходит гений и предлагает нам иные пути, за ним с восторгом следуют даже те из нас, кто не чувствует себя способным чего-то добиться на этом пути». Очевидно, автором Моей жизни руководило не столько неприятие чуждой ему оперной эстетики, от которой он сам уходил все дальше, сколько зависть к успеху оформленной с небывалой роскошью постановки. Особенно сильное впечатление производила вдохновленная голландской живописью XVI века зимняя сцена в лагере повстанцев, с балетом и катанием на коньках (на сцене, разумеется, роликовых), а также созданный с помощью бывших в то время в новинку дуговых ламп с регулируемой яркостью эффект восходящего солнца, осветившего городские стены и укрепления, которые предстояло штурмовать бунтовщикам под руководством главного персонажа, анабаптиста Иоанна Лейденского. Кроме того, Вагнеру было известно об огромных доходах, которые эта постановка принесла и без того не бедствовавшему Мейерберу. Но, как следует из того же письма Улигу, самое главное заключалось в другом: на примере лжегероя из оперы соперника он убедился, насколько губительны были его собственные революционные заблуждения. В качестве антигероя он увидел самого себя. Поэтому герой-разрушитель его будущей музыкальной драмы Зигфрид должен был бороться не с установленным общественным порядком, а со злыми силами, разрушавшими общество изнутри. Теоретическим обоснованием этой идеи стала работа Еврейство в музыке .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: