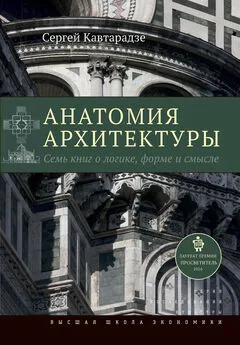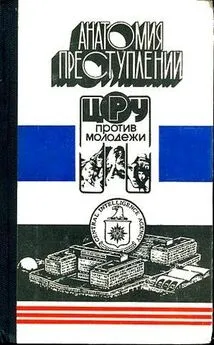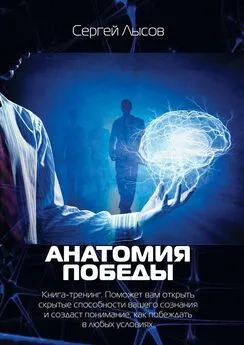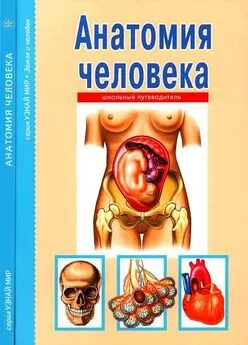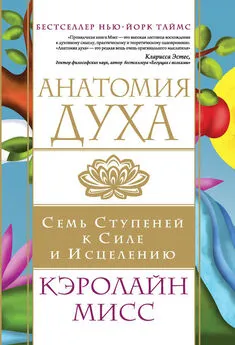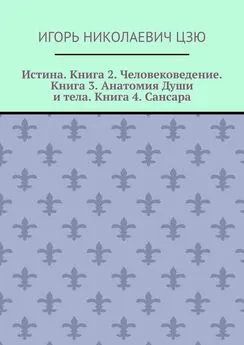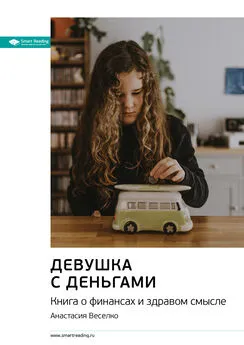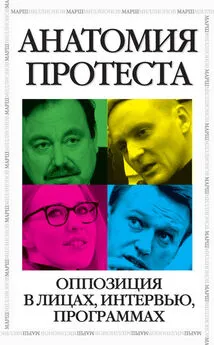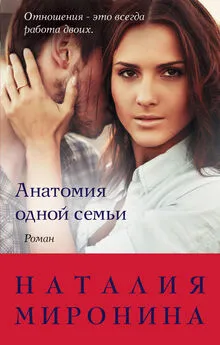Сергей Кавтарадзе - Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле
- Название:Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Высшая школа экономики
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1372-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Кавтарадзе - Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле краткое содержание
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся архитектурой и историей искусства.
Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В барокко же всё наоборот. Именно выражение безостановочного, торжественного движения в третьем измерении является одной из главных целей архитекторов этой эпохи. Самый простой путь – ракурс, буквально навязываемый зрителю. Любой турист легко вспомнит, что даже там, где нет затесненности городской застройки (например, на территории загородного дворца), барочные здания редко удается сфотографировать фронтально. Прямо по главной оси обязательно окажется какой-нибудь обелиск, фонтан или даже каскад фонтанов, прудов и водопадов, вынуждающих зрителя подвинуться и искать эффектные асимметричные ракурсы. С боковой точки любой фасад подчиняется законам перспективы и уводит наш взгляд за собой, к точке схода перспективных линий.

Рис. 3.31. Фасад церкви Сант-Аньезе-ин-Агоне. Архитектор Франческо Борромини. 1652–1655 гг. Рим, Италия [99] Фотография: Сергей Кавтарадзе Праздник Эпифании, бурно отмечаемый римлянами, помогает еще острее почувствовать интенции барочного зодчества: «принуждение» к восприятию в ракурсе, отступ части фасада от красной линии, скругленность углов. Но и тогда, когда толпа разойдется, обелиск и фонтаны останутся на своих местах, мешая нам смотреть на памятник строго фронтально.
В инструментарии зодчего есть и другие средства для достижения того же эффекта. Вновь обратимся к мысленным экспериментам. Представим себе, что мы смотрим на обычную ренессансную базилику. В глубине высится купол, а прямо перед собой мы видим фасад с двумя квадратными в плане (то есть при виде сверху вписывающимися в квадрат, а не в крест или в круг, например) фланкирующими (расположенными по краям, на флангах) башенками и портиком в центре. Плоскость фасада и есть основной слой в нашем зрительном восприятии. Теперь выдвинем башенки чуть вперед, за красную линию, или, наоборот, заставим чуть-чуть отступить назад главный портал. Вот и всё: плоскость разрушена, движение в глубину открыто.
Однако можно поступить и по-другому. Оставим башни на месте, но слегка развернем их друг к другу. Или просто «срежем» им углы, сделав многогранными в плане. И вновь тот же результат: «слоистость» исчезает и массам и пространству доступно плавное движение вглубь композиции, до самого купола.

Рис. 3.32. Новый дворец на площади Капитолия. Проект Микеланджело Буонарроти. 1537–1539 гг. Строительство закончено в 1654 г. Рим, Италия [100] Фотография: Сергей Кавтарадзе Деталям как будто становится тесно на фасаде, они стремятся «выдавить» друг друга из плоскости стены. Это признак кризиса Возрождения как грандиозного гуманистического проекта. Однако острые грани, оформляющие углы здания, еще свидетельствуют о «послойном» мышлении при построении композиции. До перехода к барокко еще далеко.

Рис. 3.33. Собор Святого Юра. Архитекторы Бернард Меретин, Себастьян Фесингер. 1744–1770 гг. Львов, Украина [101] Фотография: Сергей Кавтарадзе Строительство греко-католического собора Святого Юра во Львове было начато в 1744 г. по проекту Бернарда Меретина, после смерти которого работами руководил Себастьян Фесингер (до 1764). Отделочные работы закончены в 1772 г. На фасаде находятся скульптуры, созданные выдающимся львовским мастером Иоганном Пинзелем; интерьер украсили скульпторы С. Фесингер и М. Филевич, художники Л. Долинский и Ю. Радивиловский. Еще один пример барочного мышления. Неприятие острых граней, волнообразный изгиб фасада. Можно также сказать, что авторы не хотели показывать четкую границу, линию, где кончается здание и начинается небо.
Скошенность, притупление углов вообще один из главных приемов барочных зодчих. Острая грань – та самая линия, граница объекта, что отделяет его от окружения. Она же – функция плоскости, следовательно, «враг» глубинности. Скошенные и закругленные углы, более или менее заметные изгибы фасадов, развороты деталей относительно главной оси – все это средства «растворения» здания в окружающей среде и средства «взлома» плоскостного видения, плавного проникновения вглубь пространства, по направлению от зрителя.
Замкнутая и открытая форма
В принципе, открыть форму очень просто. Достаточно надкусить яблоко из нашей композиции. Еще лучше это получается с лимоном. На голландских натюрмортах XVII века (то есть в эпоху барокко) очень часто присутствует этот ярко-желтый плод, чья корочка, до половины аккуратно счищенная острым ножом, покрытая, как росой, блестками выступившего сока, изящной спиралью свешивается с края стола или вазы.
В искусствознании есть очень простой и действенный прием: чтобы понять значение какого-то предмета или явления в картине или в архитектурной композиции, достаточно представить, что его там нет. Иногда, для наглядности, стоит отступить и, прищурив один глаз, просто прикрыть объект рукой. В данном случае, мысленно вернув корку обрат но на лимон, мы (с оговорками, конечно) получим уже не голландский, а, скорее, испанский натюрморт, что-то в духе Сурбарана. Такой натюрморт окажется гораздо менее «гостеприимным», все предметы будут жить в нем отдельно, и каждый плод будет замкнут, метафизичен, предназначен для вечности, а не для предстоящей лихой пирушки. Так, посредством лимонной корочки, демократичные жизнерадостные голландцы уже четвертый век открывают для нас свои картины, зовут внутрь, чтобы, мысленно присоединившись к застолью, мы возрадовались полноте и изобилию жизни. А вот более чопорные, проникнутые религиозным чувством испанцы скорее призывают нас издалека, не проникая за плоскость холста, почувствовать благодарность Творцу за дарованные сокровища бытия.
Однако важно и то, что, надкусив яблоко, счистив корочку с цитрусовых или украсив здание раскрепованными фронтонами и антаблементами (а раскрепованные детали как раз и выглядят так, будто часть их выедали огромной челюстью), мы не только пускаем взгляд зрителя внутрь формы, показывая, что же там, в ее недрах. Одновременно и сама форма, подвергнутая подобной операции, обращается наружу, становится активной, «экстравертной».

Рис. 3.34. Питер Клас. Натюрморт. 1633 г. Галерея старых мастеров, Кассель [102] Источник: http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Pieter_Claesz_001.jpg (последнее обращение 6 декабря 2014). Голландский натюрморт как будто приглашает нас войти и присоединиться к пирушке (которая уже давно в разгаре).
Интервал:
Закладка: