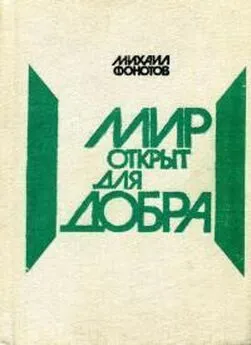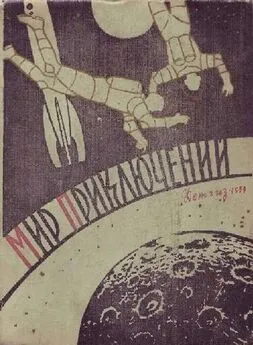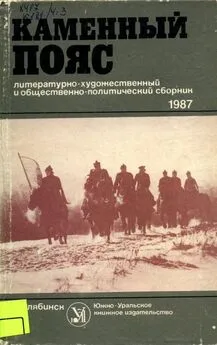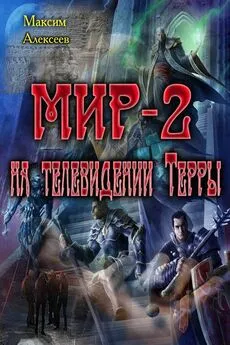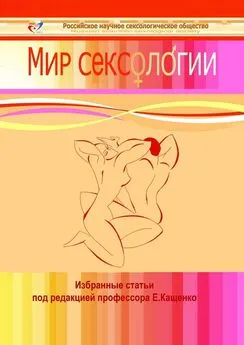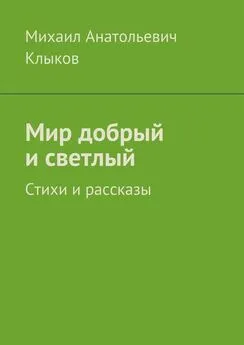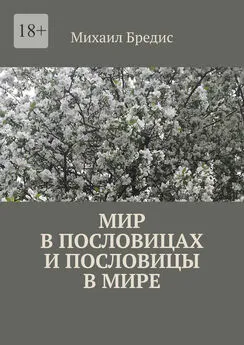Михаил Фонотов - Мир открыт для добра
- Название:Мир открыт для добра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Южно-Уральское книжное издательство
- Год:1989
- Город:Челябинск
- ISBN:5-7688-0124-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Фонотов - Мир открыт для добра краткое содержание
Очерки «Река Миасс» и «Уральский лес» написаны после экологических экспедиций в соавторстве с Б. Киршиным.
Мир открыт для добра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однако время от времени люди возвращаются к мечте о добре.
Вот и мы ныне как бы опомнились: а почему, собственно, так часто обижаем друг друга? Как-то позвонила в редакцию пенсионерка, бывший строитель, и предложила нам тему: о культуре общения. «Почему мы так грубы?» — спросила она.
В самом деле, какая великая редкость — доброжелательная улыбка на лице незнакомого человека. А слово «любезность» и произнести-то неловко.
Отчего мы такие хмурые? Жизнь такая? Или так, само по себе, по привычке?
Наверное, мы еще не умеем жить в большом городе, в многолюдье, в тесноте, в толкотне. Сама эта плотность тел и душ, конечно, не благо. Но надо бы понять: в городской круговерти разумнее не взвинченность и боксерская готовность дать сдачу, а именно доброжелательность. Проявив любезность, сам успокоишься и погасишь враждебность к себе.
Наверное, эта истинно городская культура привьется нашим детям, внукам и правнукам. А пока налицо самый странный из наших на весь мир знаменитых дефицитов — дефицит приветливой улыбки.
Манеры у нас, признаемся, неуклюжие. Но не только от воспитания. И от экономики. Экономика у нас ведомственная, а ведомства тоже хмурые. Какое из них встречает нас улыбкой? Что-то не припомню. Нигде нам не улыбнутся — ни в магазине, ни в ателье, ни в парикмахерской, ни в больнице, ни в трансагентстве, ни даже в школе, музее или библиотеке. Не рады нам и в собесе, райфо, гороно, в отделе культуры — какую контору с приемной ни возьми. Везде нам дают понять, что без нас там лучше. И живем мы так, будто перед всеми ведомствами виноваты, у всех в долгу, всем обязаны.
Могу представить самое банальное доказательство. Войдите в любой городской автобус и найдите где-то у кабины водителя жестяную пластину с правилами перевозки пассажиров. В тех правилах четыре пункта. Один из них, самый лаконичный пунктик, начинается словами: «Пассажир имеет право». Есть пункт: «Пассажир обязан». А также «Пассажиру не разрешается». Но и этого мало. Третий пункт: «Ответственность пассажира». Три один в пользу ведомства. Счет задан раз и навсегда. И не моги возникать. С меня спрос на всю катушку, а с транспорта взятки гладки: он мне не обязан, ему все разрешается, и ответственности он не несет никакой.
Такая она, ведомственная приветливость.
Возьмите любую другую инструкцию, она такая же. С нас они требуют сто обязательств — и ничего взамен.
Грустно это.
…Сейчас бы под душ и в кресло перед «ящиком», но надо топить печь, чем-то ужинать. Когда дрова разгорелись, я вывернул шапку, фуфайку, пиджак, развесил сушить, а рубашку высушил на себе, поворачиваясь к огню то лицом, то спиной. Печь освещает избу лучше, чем свеча, но все равно сумрачно. Сидишь, а перед глазами лыжня, мельтешенье стволов. И за день так надышался, воздух глотал так глубоко и крупно, что распирает горло и в носу стоит пресный запах снега.
Заснул, как упал в пропасть. Но ночью, в четвертом часу, все-таки проснулся. Опять сидел у огня. Слушал, как в печи потрескивает, кажется, осыпаются хрупкие кристаллики раскаленной золы, как то шипит, то сипит, то сопит, а то и стрельнет влажное полено, как трепещут языки пламени и хлопают, будто алые флажки на ветру. Бормочет огонь, бормочет, не переставая, сам с собой разговаривает, а ты хоть слушай, хоть думай о своем…
Можно, наверное, и так жить. Вчера весь день бродили — ни села, ни хутора, ни усадьбы. И ни живой души на пути.
Где-то будто бы отдельно от нас вертится планета, которую в городе ежевечерне привыкли видеть в своей квартире на экране телевизора. Но у нас нет связи с миром. Что там произошло? Что-то произошло, но значительное или так себе, преходящее? Что-то произошло, а мы не знаем. Живем в неведении. И ничего. Можно, наверное, и так жить.
Утро. Миша поддерживает костер, я чищу картошку и лук, мо́ю посуду. Нагим — за стряпуху. Поднаторели так, что не проходит и часу, а традиционный наш суп готов, хотя, кажется, малость уже приелся.
Ходили за капом. Это как раз по дороге в село. Нагим давно его приметил на березе километрах в двух от нашего пристанища. Рядом, по нашим меркам. К тому же тут у Нагима хранится бензопила.
Кап мы вырубили споро. Распилили его на плахи, рассовали их в два рюкзака и отправились обратно. Тут-то нас и догнал дядя Миша. Мы бросили рюкзаки и бензопилу в сани и пошли налегке.
Нет, я еще не скучаю по городу, но дела, оставленные там, не дают покоя. Никогда не думал, что меня будет интересовать рынок, а в последнее время он меня все больше занимает. Недавно позвонила мне женщина. Поговорили мы так:
— Вы бываете на Заречном рынке? — спросила она.
— Бываю, — ответил я.
— Вы видели там — старухи капусту продают, квашеную?
— Видел.
— А вы знаете, что у себя на огороде они капусту не выращивают?
— Да, предполагаю.
— Значит, они в магазине покупают капусту за семь копеек, а на базаре продают за два рубля. Не слишком ли? И кто за ценами следит?
— Наверное, никто.
— А почему?
Женщина считала уместным и даже обязательным актом насильно срезать базарную цену на квашеную капусту.
Если стоять по эту сторону прилавка, то, и верно, дорого. И за что? Сама старуха капусту не садила, не поливала, не убирала. Только засолила и заквасила — и такие барыши…
А если стать за ту сторону прилавка, где стоит старуха со своим эмалированным ведром? Вот я, к примеру. Значит, так. С осени по дешевке в магазине покупаю капусту. Сколько? Центнер? Два? Тонну? Куда ее? Как солить-квасить? Где хранить? Когда продавать?
Извините, вопросов много, а ответов мало, почти нет. Едва прикинул и сразу остыл: не так-то просты, оказывается, бабкины барыши.
Теперь и телефонные вопросы женщины нахожу странными. Она требует, чтобы кто-то срезал цены на капусту. Между тем это должна сделать она сама. А именно: насолить капусты и выйти на рынок с эмалированным ведром.
Да, но у нее нет такой возможности. Очень даже вероятно, что так. Она не в состоянии квасить (чтобы вкусно было), всю зиму хранить капусту и торговать ею на рынке. Наша государственная торговля тоже не в состоянии: нет у нее ни засолочных пунктов, ни тары, ни складов. Много чего у нее нет, включая выгоду и желание.
И, выходит, все есть только у старухи, которую мы видим за базарным прилавком с эмалированным ведром. Если бы не она, то мы, глядишь, вообще забыли бы вкус настоящей квашеной капусты.
Впрочем, бабку, кажется, никто не гонит. Пусть торгует. Но только дешево!
Ах, эта наша простодушная вера: иметь недорогие продукты при их дефиците. Ах, это наше упование на распределение, а не на производство. Когда же мы, последователи Маркса и Ленина, вникнем в элементарный закон экономики: чтобы товары стали дешевле, надо больше их производить?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: