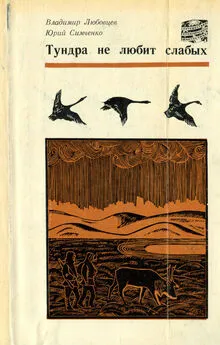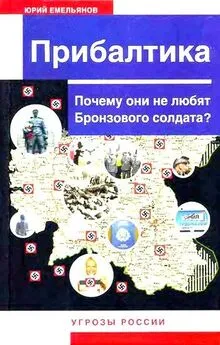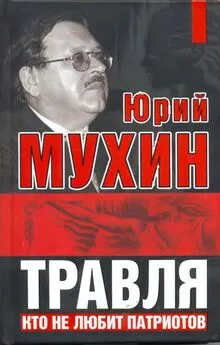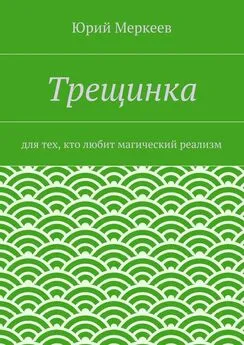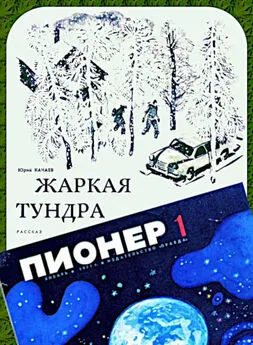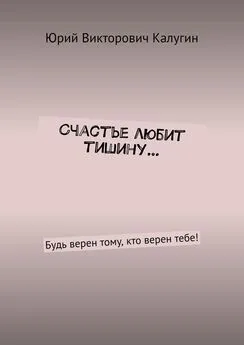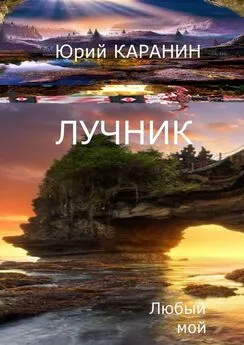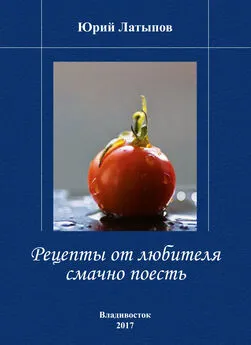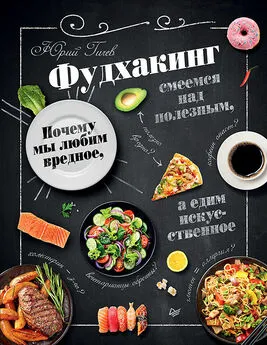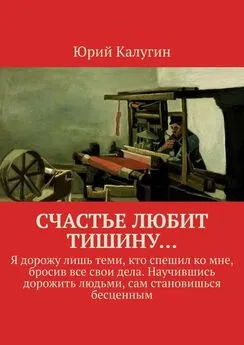Юрий Симченко - Тундра не любит слабых
- Название:Тундра не любит слабых
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Мысль»
- Год:1968
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Симченко - Тундра не любит слабых краткое содержание
В коротких новеллах читатель познакомится и с работой полярников, летчиков, геодезистов, горняков — всех тех мужественных людей, которые покоряют суровый Север. cite
empty-line
5 0
/i/13/704713/i_001.png
Тундра не любит слабых - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Стена тумана внезапно оборвалась, как отрезанная ножом. Карпович вновь принялся за свои дела, с практическим обучением журналиста было на время покончено. Я пошел в кабину пилотов.
…У летчиков полярной авиации несколько иные взаимоотношения со своими пассажирами, нежели у их коллег в средних широтах. Те относятся к нам с холодноватой вежливостью: дескать, вы платите деньги, мы вас возим. Так что, граждане пассажиры, сидите, пожалуйста, на своих местах, не забудьте пристегнуться ремнем к креслу, при взлете и на стоянке не курите, со всеми вопросами обращайтесь к бортпроводнице.
Я ничего не имею против установленных аэрофлотом правил. Думаю, что они глубоко и всесторонне продуманы, и вовсе не предлагаю, чтобы летчики наших лайнеров играли во время рейса с пассажирами в домино или рассказывали им анекдот. Я просто констатирую факт: полярные авиаторы относятся к «седокам» по-иному, чем на континенте.
Это и понятно. Ведь своих пассажиров они знают по многу лет. Они встречались с ними на расчищенных посадочных площадках зимовок, спали с ними рядом, ели и пили за одним столом, вместе попадали в разные передряги, неделями, случалось, ждали у моря погоды. Они заняты одним общим делом: те и другие — солдаты армии полярников. Потому-то летчик здесь относится к пассажиру как к товарищу по оружию, как к другу, даже если встречает его впервые. Потому-то вход в кабину пилотов никому не возбраняется: если человек зашел, значит, ему нужно, не просто так, из любопытства, а по делу.
И хотя я не полярник, на меня тоже распространялось это неписаное правило. Заходи, стой или садись, если есть на что, смотри, задавай вопросы. Только не лезь под руку, не мешайся под ногами.
Впрочем, я не злоупотреблял этой северной привилегией, не приставал с расспросами к пилотам и штурману. Чаще всего садился за столик возле Рашида и смотрел, как он работает. Больше всего, честно говоря, меня манило к столу выпуклое окно-полусфера. Сунув в него голову, можно было видеть все, что открывалось впереди по ходу самолета, и сзади, и внизу. И еще здесь была карта, взглянув на которую сразу можно было определить, где мы в данную минуту находимся. Ко всему прочему, Рашид был молчалив и не пытался приобщить меня к тайнам своей профессии, как Карпович.
Я слежу за карандашной линией, которую ведет Мамедов по карте от острова к острову. Все острова — на одно «лицо», только названия разные. Высокие, скалистые черные берега круто обрываются вниз, к воде. Сверху сползают ледники, сверкают на солнце белые купола, резко контрастирующие с черными скалами. Всего три краски использовала здесь природа: белую, черную и зеленовато-синюю — для моря.
Места, что и говорить, невеселые. И нигде не заметно ни жилья человеческого, ни какого-нибудь следа людей. Первозданная пустыня. Такой была Арктика и тысячи лет назад.
Впрочем, что это? Вот же след человека, вот дело его рук! На каждом острове стоят вышки тригонометрических пунктов, геодезические знаки. Значит, человек побывал и в этой пустыне, нанес на карту все изгибы, высотки, низинки этих островов.
Беспокойное племя геодезистов, где оно только не ходит, в какие дикие места не забирается! И всюду оставляет после себя деревянные или металлические вышки-треножники, которые стоят над врытыми в почву монолитами.
Мне особенно приятно было видеть эти вышки на полярных островах, потому что я сам в прошлом геодезист. Правда, я работал в Средней Азии, в песках Кызылкумов и горах Зеравшанского хребта, задыхался от нестерпимого зноя, обливался потом, втаскивая на себе теодолит на трехкилометровые вершины. А какого труда стоило поднять на такую высоту на собственных плечах бревна для постройки тригопункта! И мне понятны усилия полярных геодезистов, создавших здесь, на островах, тригонометрическую сеть.
Впереди из воды вставал остров. Он отличался еще более угрюмой красотой, нежели другие острова. Вход в небольшую бухту сторожили высокие скалы, похожие на кривые черные клыки какого-то гигантского зверя. За скалами, на берегу бухты, несколько домиков. Посередине бухты — корабль. С его палубы навстречу нам взвиваются желтые ракеты: нас приветствуют малым, рабочим салютом. Самолет покачивает крыльями: «Привет, друзья, привет! Сейчас я разведаю для вас путь сквозь льды…»
И снова мы начинаем сновать над морем, между островами, выискивая, где лед послабее. Наш полет продолжается уже шесть часов с лишним. Пейзаж внизу почти не меняется: ледяные поля, небольшие пространства чистой воды. Есть льдины-коллективистки, сбивавшиеся в тесную компанию. Есть льдины-индивидуалистки, предпочитающие плавать в одиночку. Самые отъявленные гордецы — айсберги: они независимо покачиваются в сторонке, не желая смешиваться с какими-то там льдинками.
Пытаюсь проверить на практике то, что мне втолковывал Карпович. С видом знатока определяю возраст льда и его происхождение. Рашид смеется:
— Нахватался! Не приведи аллах, чтобы по твоим наблюдениям составили картосхему! Наверняка, эта посудина здесь бы зазимовала!
Н-да, дело-то не такое простое, как мне показалось вначале. Остается лишь завидовать и удивляться точности, с какой Карпович и аспирант-гидролог определяют с мчащегося самолета всю родословную ледяных полей. Они не имеют возможности ни пощупать льдины, ни смерить их толщину, ни взять пробы для лабораторных исследований. Они должны тут же, с одного взгляда, решить, что это за лед: многолетний, паковый, или однолетний, весенний, или зимний, материковый, или морской. И решить правильно: от их картосхемы ледяной обстановки зависит судьба корабля, его маршрут, своевременность доставки людей, грузов и оборудования на тот или иной остров. Ошибиться они не имеют права: ошибка здесь стоит очень дорого…
Сброшен вымпел с картосхемой внутри, самолет покачивает крыльями и делает последний круг над островом. Теперь домой, в Диксон.
Бортрадист, веселый украинец Степан Матвеевич, бубнит в микрофон:
— Пидкрадаюсь до аэродрому… Выпустил клещи… Первый пилот сердито кричит, не оборачиваясь:
— Степан, сколько раз тебе говорить, чтобы докладывал, как положено?! Что это за «пидкрадаюсь»? И не «клещи», а шасси!
Упрямый радист продолжает диалог с диспетчером на смешанном русско-украинском языке, подмигивает мне заговорщицки. Это он просто разыгрывает командира: дескать, пусть хоть несколько слов скажет, а то ведь восемь часов молчал, не до разговоров было. Теперь уже можно: под крыльями надежная земля, вон уже и посадочная полоса видна..
Николай Петрович сообщил мне через несколько дней, что не сегодня-завтра пойдет судно на станцию Нагурскую.
— Не провороньте! — напутствовал меня он.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: