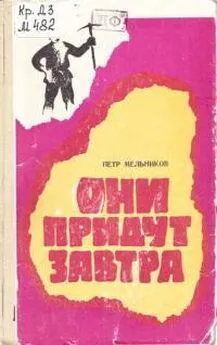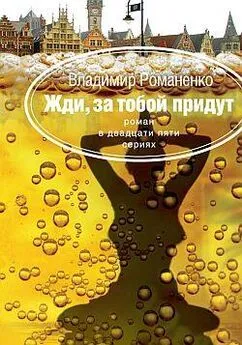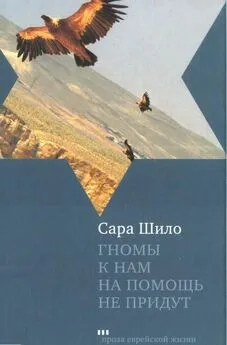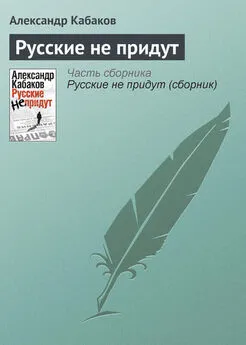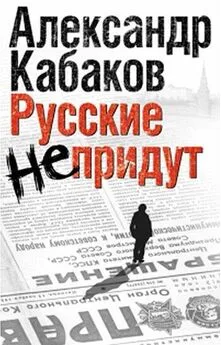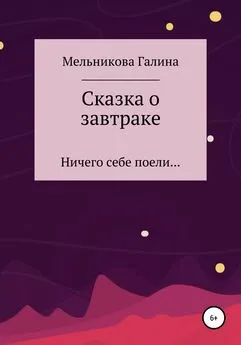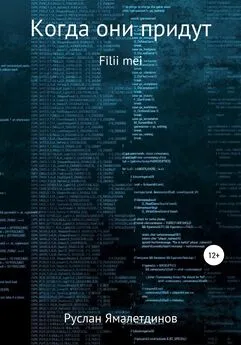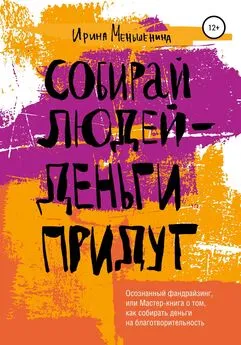Пётр Мельников - Они придут завтра
- Название:Они придут завтра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Якутское книжное издательство
- Год:1970
- Город:Якутск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пётр Мельников - Они придут завтра краткое содержание
Читатель узнает также о том, как старатели и якуты-проводники помогли Ю. А. Билибину, С. Д. Раковскому и П. М. Шумилову найти в жизни более верную дорогу, чем у их отцов, и стать патриотами своей социалистической Родины, лауреатами Государственной премии.
Эта книга — о повседневном будничном героизме советских геологов и золотоискателей.
Они придут завтра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сколько же мороки принесло это злополучное письмо среднеколымского казачьего пятидесятника Попова. А раскопал его и Иркутском архиве сам Д. Ф. Оглоблин. Еще в 1914 году Попов предложил компании «Лена-Голдфилдс», а в 1917 году — Временному правительству купить у него застолбленные им «богатейшие» участки золота на Колыме. Билибин отнесся к письму Попова еще более скептически, чем к записке Розенфельда. Опираясь на строго научные основы геологической науки, Юрий Александрович заявил: «Там, в поповских местах, большого золота не должно быть».
«Опять учит… Опять теоретизирует… Академик. Не должно быть… — раздраженно ворчали недоброжелатели. — Должно быть там золото!» И послали на розыски поповского золота Верхнеколымскую экспедицию В. А. Цареградского. Заместителем его по технической части поехал С. Д. Раковский.
Афанасий Иванович Данилов, работавший у Попова конюхом, привел геологов в долину реки Бочеры и показал ямы, откуда казачий пятидесятник «выгребал золото». Взяли пробы: кристаллы серного колчедана, пириты… Та же ошибка невежды, что и у Розенфельда!
Зато экспедиция набрела на медное оруденение, исследовала угольное месторождение на Зырянке. Кубик меди положили на стол Э. П. Берзину. Но от экспедиции ожидали не угля и меди, а золото. И не только золото, но и платину…
Однако, когда в конце года С. Д. Раковского вызвали и Среднекан в горное управление, то он с удовольствием опустил из доклада весь раздел о платине, как не имеющей под собой никакого основания. «Не послушали Билибина…» — горько сетовал Сергей Дмитриевич. — Сколько времени потеряли зря, какие средства убили…»
А ведь эта экспедиция чуть не стоила ему жизни. Спасибо верному псу. Это он, напуганный напором льда и бульканьем воды в кунгасе, в котором жили Раковские, поднял ночью неистовый лай.
Сергей Дмитриевич, проснувшись, разбудил жену. По колено и ледяной воде, он метался между кунгасом и берегом, спасая свои пожитки. Глупее смерти и не придумаешь…
Репутацию, честь экспедиции поддержал тихий и скромный Иннокентий Галченко. Ему везло на золотишко. Какие пробы он привез с Индигирки!
Зато этот поход на верхнюю Колыму очень много дал Академии наук СССР. Однако в Главном управлении сухо подчеркнули: «Дальстрой» — не филиал Академии! С. Д. Раковского во главе новой экспедиции направили на правобережье Колымы. Два года Афанасий Иванович водил Сергея Дмитриевича по нехоженым местам, не раз выручая из беды таежных следопытов.
Как-то Цареградский «набрел на золотишко», людей оставил у шурфов, но много продуктов им дать не смог. На помощь послали Раковского и Данилова. Продовольствие навьючили на пять лошадей. А уже был октябрь. Тропу через болота занесло снегом. Каюр посоветовал:
— В Нелемном возьмем юкагира… Болото великое, на три дня пути… Я эту тропу плохо знаю… А провалится лошадь, поранит ногу — и пропала…
Раковский так и сделал. Три дня под ногами зыбилась замерзшая тропа. Афанасий Иванович под снегом умудрялся находить «сибикту» — траву для лошадей, питательную, как овес. В пути подстрелили больше тридцати глухарей, дикого оленя. Глухари испуганные, двое налетели на один выстрел дробью и оба упали в снег. Устроили лабаз и всю дичь упрятали до нартового пути. Пробрались к людям Цареградского как нельзя вовремя: они доедали последние лепешки…
Где только не приходилось жить — и под лодкой, и в палатке, и в лодке, выброшенной на берег. А таежная почта! Эти записи и на стволах деревьев, очищенных от коры, и на затесах:
«Уважаемый Сергей Владимирович! Я сплавился по Бохапче. По этой реке будет большой сплав грузов. Прошу определить астрономические пункты. Ю. А. Билибин».
Под ней другая:
«Уважаемый Юрий Александрович! Проплыл на лодке один без астронома. Ближайший пункт — устье Таскана. С приветом. С. В. Обручев».
Чем севернее, тем реже тайга (она уже легко просматривается на многие сотни метров), тем ниже деревья. Кислые ягоды на болотах. Цветы, удивительные северные цветы. Грибы — маслята, подберезовики. Кто сказал, что на Колыме нельзя жить? Живут же здесь многие поколения якутов, эвенов, чукчей. Более ста лет прожил Колланах. Сергей Дмитриевич пристально, с открытым сердцем изучал их житейскую мудрость. Они отвечали ему взаимностью, показывали, учили, советовали. Афанасий Иванович спрашивал:
— Зуб болит… Доктора нет. Что делать?
Сергей Дмитриевич становится в тупик. Каюр подсказывал, какие собирать ягоды и где выискивать равные травы и корни.
— Сергей, тайга! Десять дней пути. Мяса нет. Что делать будем?
— Ждать транспорта.
— Нет нарт. Оленей нет. Собак нет. Что делать?
Сергей хотел сказать: съесть своих лошадей и собак, чтобы протянуть до лета, да прикусил язык. Ответил другое:
— Охотиться буду. Стрелять белок, куропаток, ловить рыбу буду.
Афанасий Иванович смеется.
— Охота — хорошо! Только куропатку силком лови. Береги порох. Белки нет, якут, эвен далеко. Что делать будешь?
— Умирать буду.
— Зачем умирать? — рассердился Афанасий Иванович. И рассказал о диких стадах «морских оленей». Поздней осенью они покидают острова и тундру и громадными косяками уходят в тайгу от суровой зимы, питаясь подножным кормом. На сто десятой версте олени обычно пересекают Верхоянско-Колымскую тропу, а весной возвращаются в тундру. Через Колыму переправляются в половодье. Охотники знают оленьи переправы: у местечка Волочек в шести верстах выше заимки Тимкино, в десяти верстах ниже заимки Лаксеево и около заимки Дуванная.
— Тут стереги. Стреляй. Много мяса. Много кожи. Уши потрогай — меченые — верни хозяину. Положи оленя головой к морю, скажи: не знал, что за тобой смотрит Хозяин, — иди, пусть море не сердится на меня…
Сергей Дмитриевич и раньше слышал о морских оленях.
— Так ведь не всегда они двигаются этакой подковкой в тысячу, а то и две тысячи километров?
— Мой дед бил оленя на том месте, отец бил, я бил. И ты бей.
Еще древний Колланах приметил, что Длинный Нос доверчив, как непуганый олененок, и предупреждал его:
— Макарке — верь. Колланаху — верь. Охотнику — верь. Шаману — не верь. Людям Бочкарки не верь.
Это был мудрый совет. Авантюристов около золота всегда крутилось немало.
Напутствуемые и поддерживаемые местными следопытами — охотниками и оленеводами, геологи настойчиво пробивались через горы и тайгу. Колыма осталась позади. Впереди была золотая река — Индигирка.
Колымский эпос
И походы геологов на Колыму и Индигирку, и первый зимний рейс дальстроевцев на «Сахалине» в бухту Нагаево, и строительство автотрассы через перевалы Карамкенский, Яблоновый, Болотный. Лысы, Горбинский, Среднеканский, Дебинский, Утиный, Бурхалинский и Тасканский ждут своего достойного отражения в эпосе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: