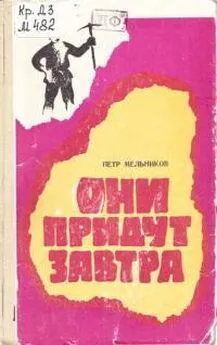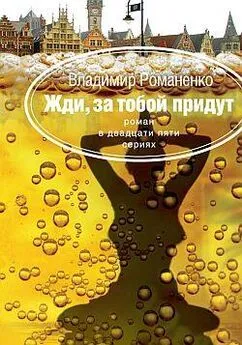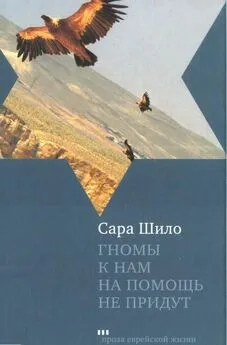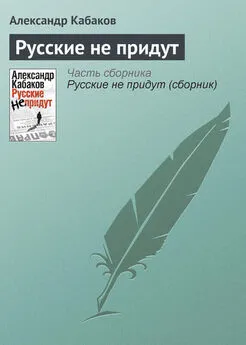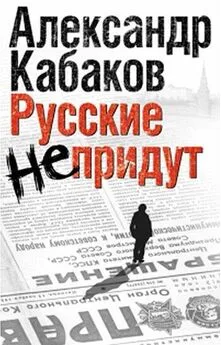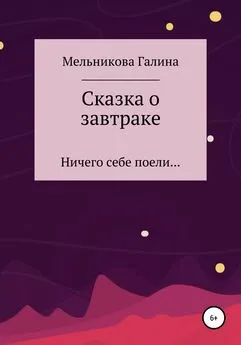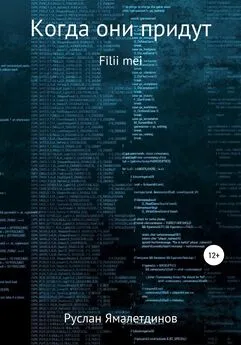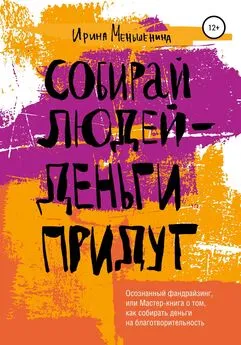Пётр Мельников - Они придут завтра
- Название:Они придут завтра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Якутское книжное издательство
- Год:1970
- Город:Якутск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пётр Мельников - Они придут завтра краткое содержание
Читатель узнает также о том, как старатели и якуты-проводники помогли Ю. А. Билибину, С. Д. Раковскому и П. М. Шумилову найти в жизни более верную дорогу, чем у их отцов, и стать патриотами своей социалистической Родины, лауреатами Государственной премии.
Эта книга — о повседневном будничном героизме советских геологов и золотоискателей.
Они придут завтра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда «Сахалин», застрявший во льдах, с помощью лебедок подтянулся к ледорезу «Литке», то дальстроевцы увидели своего спасителя в самом жалком состоянии. Израсходовав уголь, команда сожгла в топках старую мебель, кормовые грузовые стрелки, перегородки, стойки, обшивку кают, шлаки, облитые маслом и краской, и, наконец, трапы. Были сожжены мосты, последние надежды на спасение. «Литке» стал игрушкой студеного Охотского моря. Снабдив ледорез углем с «Сахалина», дальстроевцы вдохнули в «Литке» жизнь и лишь на тринадцатый день пробились к бухте Нагаево.
Но где в те дни было найти на Колыме поэта, звонкая лира которого всеми своими певучими струнами отозвалась бы на удивительные голоса и неповторимые краски пробуждавшегося от векового сна края? Судьба дает нам больших поэтов так же редко, как и крупные самородки.
Однако это обстоятельство не очень-то удручало пионеров Колымы и Индигирки. Забираясь к черту на кулички, геологи и там не ждали милости от природы. В свободные часы они брали в руки простые, черные карандаши и, настраиваясь на лирический лад, сами себе славу рокотали, не упускали ни одного случая, чтобы и в этой дикой глуши воссоздать мирок, осколок той культуры, в которой они росли и мужали. В поселке Усть-Нера геологи создали малый симфонический оркестр. Здесь была своя группа вокалистов. И вот на берегах Индигирки зазвучали «Времена года» Чайковского, «Патетическая соната» Бетховена, «Я помню чудное мгновенье», «Жаворонок», «Северная звезда» Глинки, мелодии Даргомыжского, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, Грига, Моцарта, Шумана, Леонкавалло, Бизе, Гуно, Верди, «Цыганские напевы» Сарасате. Меццо-сопрано Анны Петровны Раковской, спутницы Сергея Дмитриевича, и колоратурное сопрано врача Клавдии Федоровны Камальян колокольчиками рассыпались по угрюмым берегам, где веками грохотал бубен шамана да выли северные вьюги.
И что удивительнее всего — суровая обстановка не только не убивала в геологах юмора, а даже совсем наоборот, она давала ему самый широкий простор. Казалось, таежные бродяги со своим редкостным острословием задались целью навсегда сохранить тот дух искрометного веселья, который так непринужденно умел создавать Ю. А. Билибин.
Походные вирши ходили по рукам выписках без претензии на гонорар и благосклонное внимание критики. Я прочел многие из этих стихов и поэм, особенно про индигирцев, в дружной семье которых девять лет пробыл Сергей Дмитриевич. В этой поэзии со всей непосредственностью отразились и настроения, и сама душа геологов.
Индигирцы — есть такое племя,
Племя это нечто вроде клана,
Говорят, такое было время,
Что им даже не спускали плана!
К индигирцам раньше добирались
На оленях или самолетах.
И немало смельчаков терялось,
Гибнуло на бродах и болотах.
Индигирца отличить не трудно,
Даже из ведущих инженеров.
Шьют они себе одежду чудно,
Шапки сверхъестественных размеров.
Индигирцы любят поклоняться
Идолу лесного бога Пана,
Но сильнее всех чертей боятся
Спущенного им из главка плана.
Это пролог. Первая же глава более деловита, что вполне отвечало характеру героя.
Раковский, сидя и кабинете,
Писал размашисто на смете:
«Пересмотреть. Ошибки есть.
Потом Шаталову прочесть…»
Но в двери кабинета вдруг
Раздался дважды резкий стук:
— Пакет примите…
— Что так рано?
— Да молния из Магадана!
Возьмите, распишитесь тут…
— Вот черти, в семь часов найдут!
Раковский черта вспоминает.
Берет депешу и читает:
«Созвать на съезд решили мы
Геологов всей Колымы,
Где мы прослушать будем рады
И ваши мудрые доклады».
Тут у Раковского в глазах
Недоумение и страх:
«Всего осталось двадцать дней!
Созвать геологов скорей!»
И через сорок пять минут
Собрался весь райгрувский люд.
Когда ж был полон тесный зал,
Шаталов речь свою держал.
— Вы знаете обычай русский —
Не посрамим земли райгрувской!
Пускай же индигирский стяг
Увидит в Магадане всяк
И скажет: «Ай да пошехонцы.
Уж не они ль создали солнце?!»
Так просидим на стульях брюки
Для нестареющей науки!
И тут в толпе раздалась крики:
— Да здравствует наш край великий!
— Виват, Райгру, таежна зирка!
— Хай незаможна Индигирка!
…Над картой «прели» день и ночь,
Не отходя ни метра прочь.
Итак, к концу аврал подходит,
С доски за картой карта сходит,
Пестря веселыми тонами.
А за гаражными стенами
Не Стефенсонова «ракета» —
Стоит седьмое чудо света.
Как паралитик, весь дрожа,
Едва ползет от гаража,
Бросая в стороны огонь,
Распространяя чад и вонь,
Частями ржавыми скрипя,
Чихая, кашляя, сопя,
Урча с глухим остервененьем,
Как кратер перед изверженьем.
Дополз и стал у грувских стен
Ровесник мамонта — газген.
На пути машина рассыпалась. Геологи пересели в попутный грузовик. И вот, когда все уже окоченели и чуть живые выкарабкались из кузова, в Сусумане им вручают депешу:
«Отсрочить мы решили съезд,
Повремените ваш отъезд».
Ну тут, конечно, непременно
По Гоголю немая сцена.
Разумеется, были недовольные голоса, но верх взяли молодость, юмор и жизнеутверждающий сарказм. Поэма эта и была естественной реакцией на все перенесенные злоключения.
Геологи выпускали стихотворную сатирическую газету «Динозавр». Это было очень остроумное, живое художественное творчество жизнерадостных людей, прямых наследников традиций, заложенных Билибиным.
Сочиняя эпиграммы, таежные пииты придерживались золотого правила — горьким лечат, сладким калечат. Колымский эпос нравился Сергею Дмитриевичу. Он хранил не только фотокопии каждого номера «Динозавра», но и более ранний эпос геологических конференций и совещаний «Дальстроя», в свободные минуты любил перечитывать его, Многое знал наизусть.
Петр Михайлович Шумилов тоже собирал колымский эпос. Но мало кто из друзей знал другую его страсть — любовь к фольклору, к верованиям и сказаниям народов. Эту любовь еще в далеком детстве привил ему Степан Григорьевич Писахов, сказочник из северной Пинеги. Такой веселый балагур был — совсем как живой домовой. Густая копна седых волос на голове, густые седые брови, кудлатая борода, нос картошкой, большие добрые улыбчивые глаза. У пинежского сказочника и дед был сказителем.
В глухих заимках, на кладбищах с крестами XVIII века, в домах без крыш с скатными потолками, от русских старожилов Колымы Петр Михайлович не раз слышал древние сказания о железнозубых еретиках, о водяных и водяницах, о пужанках и упырях, о леших, обитавших в реках, в лесах и в горах. Здесь лебеди в осеннем небе перекликались человечьим голосом. Здесь леса и скалы жили земными греховными радостями. Во время весенних игрищ на колымском льду «лесовиха» провалилась в полынью и попала в объятия водяного. Однако лесной «хозяин» успел оторвать у своей подруги голову. Долго гудел и шумел разгневанный «хозяин» леса. В дикой ярости метнул он ту голову на Конзобой. Колыма от изумления остановилась, на дыбы поднялась, да и повернула вокруг той скалы на восток и сколько не рассматривает громадный камень на Конзобое — никак не поймет, то ли там кит окаменел, то ли там каменные женские косы полощутся в студеной воде.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: