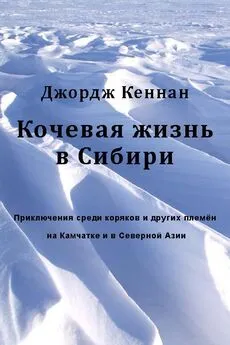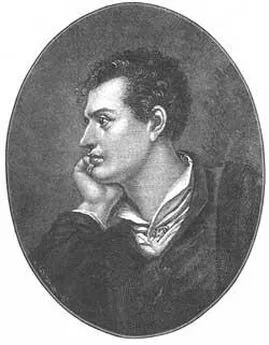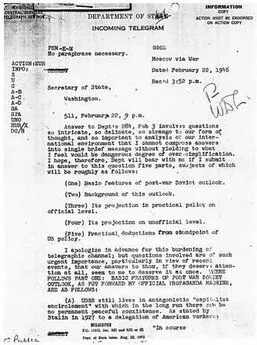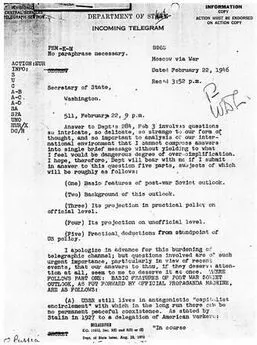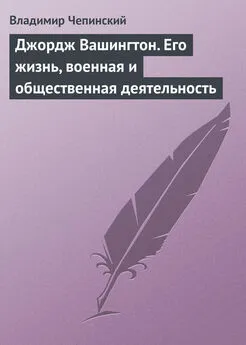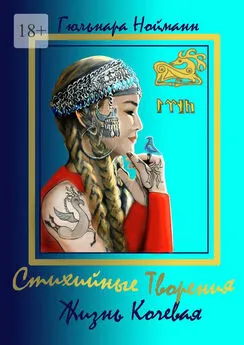Джордж Кеннан - Кочевая жизнь в Сибири
- Название:Кочевая жизнь в Сибири
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Нью-Йорк
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джордж Кеннан - Кочевая жизнь в Сибири краткое содержание
И вот молодому человеку из американской глубинки, двадцати лет отроду, предоставился волшебный шанс - испытать приключения, о которых он только читал в книгах, испытать себя в настоящем деле и побывать там, "где ещё не ступала нога цивилизованного человека"!..
И через три года он напишет эту книгу, в которой есть всё это: штормовое море и снежные горы, грохочущие вулканы и бескрайняя тундра, путешествия на лошадях, оленях и собачьих упряжках, русские казаки и камчадалы, дымные яранги чукчей и коряков, полярные сияния и арктические миражи, страшные морозы и свирепые метели, и опасности, опасности и опасности...
И ещё в этой книге есть юмор и самоирония, ответственность за порученное дело и несгибаемая воля к победе.
Кочевая жизнь в Сибири - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Расскажу про ещё один случай, имевший место в течение первого месяца нашего пребывания в Гижиге и иллюстрирующий другую сторону русского народного характера, а именно: крайнее суеверие. Однажды утром, когда я сидел дома и пил чай, меня прервало внезапное появление казака по фамилии Колмогоров. Он выглядел вполне трезвым и чем-то озабоченным, и как только поклонился и пожелал мне доброго утра, то обратился к нашему казаку Вьюшину и стал вполголоса рассказывать ему о том, что только что произошло и что, по-видимому, представляло для них большой интерес. Из-за моего недостаточного знания языка и приглушенного тона, с которым велась беседа, я не уловил её смысла. Разговор тем временем завершился серьёзной просьбой Колмогорова, чтобы Вьюшин дал ему некий предмет одежды, который, как я понял, был шарфом или палантином. Вьюшин тотчас же подошел к маленькому шкафу в углу комнаты, где он имел обыкновение хранить свои личные вещи, вытащил большую сумку из тюленьей кожи и стал искать в ней нужный предмет. Вытащив три или четыре пары меховых сапог, кусок сала, несколько чулок из собачьей кожи, топорик и связку беличьих шкур, он, наконец, с торжественным видом достал половину старого, грязного и изъеденного молью шерстяного палантина и, передав его Колмагорову, принялся искать другую половину. Вскоре он обнаружил и её, она оказалась в ещё худшем состоянии. Обе половинки выглядели так, словно их нашли в мешке какого-то бедного сборщика тряпья, который выловил их из сточной канавы в трущобах. Колмогоров связал оба куска, аккуратно завернул их в старую газету, поблагодарил Вьюшина за беспокойство, с видом большого облегчения поклонился мне ещё раз и вышел. Недоумевая, что он может делать с таким поношенным и грязным предметом одежды, я обратился к Вьюшину за разъяснениями.
– Зачем ему понадобился этот палантин? – спросил я. – Он же ни на что не годится.
– Я знаю, – отвечал Вьюшин, – это никуда не годное старьё, но другого в деревне нет, а у его дочери «анадырская болезнь».
– Анадырская болезнь? – повторил я с удивлением, никогда не слыхав о такой, – Какое отношение эта болезнь имеет к старому палантину?
– Видите ли, его дочь попросила палантин, а так как она болеет анадырской болезнью, то они должны дать ей палантин. А то, что он старый, не имеет никакого значения.
Это объяснение показалось мне очень странным, и я стал расспрашивать Вьюшина более подробно об этой странной болезни и о том, каким образом старый, изъеденный молью палантин мог принести больной облегчение. Информация, которую я получил, вкратце была такова: Анадырская болезнь, называемая так по своему происхождению из Анадырска, была своеобразной формой духовного транса, который был издавна известен в Сибири и который не лечился никакими традиционными лекарствами и методами. Люди, с которыми он случался – как правило, это были женщины – теряли сознание от всего, что их окружало, внезапно приобретали способность говорить на языках, которых они никогда не слышали, особенно на якутском, или становились ясновидящими и весьма точно описывали предметы, которые они никогда не видели и не могли видеть [107] Автор имеет в виду, очевидно, эмиряченье - этноспецифическое психическое расстройство, разновидность истерии, характерная для ряда сибирских народов (якуты, юкагиры, эвенки) вплоть до второй половины XX века. (Википедия)
. Находясь в таком состоянии, они часто просили о чем-то особенном, чей внешний вид и точное местоположение они описывали, и если это не было принесено им, они впадали в конвульсии, пели на якутском языке, издавали странные крики и вообще вели себя как сумасшедшие. Ничто не могло успокоить их до тех пор, пока предмет, о которой они просили, не был получен. Так, дочь Колмогорова беспрекословно потребовала шерстяной палантин, а так как у бедного казака ничего подобного в доме не было, то он отправился искать его по всей деревне. Это было всё, что Виушин мог мне рассказать. Сам он никогда не видел ни одного из таких одержимых и только слышал о них от других; но сказал, что предводитель гижигинских казаков Падерин, несомненно, мог бы рассказать мне больше, так как его дочь тоже страдала этим недугом. С удивлением обнаружив среди невежественного крестьянства Северо-Восточной Сибири болезнь, симптомы которой так напоминали признаки современного спиритизма, я решил исследовать этот предмет как можно глубже и, как только пришёл майор, убедил его послать за Падериным. Командир казаков – простой честный старик, которого нельзя было заподозрить в обмане – подтвердил всё, что сказал мне Вьюшин, и поведал много других подробностей. Он сказал, что часто слышал, как его дочь, находясь в таком трансе, говорит на якутском языке и даже знал, что она рассказывает о событиях, происходящих на расстоянии нескольких сотен миль. Майор спросил, откуда он знает, что его дочь говорила на якутском языке. Он ответил, что не знает наверняка, но это не был ни русский, ни корякский, ни какой-либо другой язык, с которым он был знаком, но он звучал очень похоже на якутский. Я спросил, что делается в случае, если больная потребует какую-нибудь вещь, которую невозможно найти. Падерин ответил, что никогда не слышал о таком случае, а если запрашиваемый предмет был необычный, девушка всегда указывала, где его можно найти, часто описывая с величайшей точностью вещи, которые, насколько он знал, она никогда не видела. Однажды его дочь попросила конкретную пятнистую собаку, которая бегала в его упряжке. Собаку привели, и девушка сразу же успокоилась, но с этого времени собака стала такой дикой и беспокойной, что стала почти неуправляемой, и, в конце концов, её пришлось убить.
– И ты веришь во все это? – нетерпеливо перебил майор.
– Я верю в Бога и в Спасителя нашего Иисуса Христа, – отвечал казак, благоговейно перекрестившись.
– Это хорошо, так и должно быть, – подтвердил майор, – но это не имеет никакого отношения к анадырской болезни. Ты действительно веришь, что эти женщины говорят на якутском языке, которого они никогда не слышали, и описывают вещи, которых они никогда не видели?
Падерин выразительно пожал плечами и сказал, что верит тому, что видит. Затем он перешел к дальнейшим, ещё более невероятным подробностям относительно симптомов болезни и таинственных сил, которые она развивает в людях, иллюстрируя свои утверждения ссылками на случаи с его собственной дочерью. Он, очевидно, твердо верил в реальность болезни, но не мог сказать, какой силе приписать феномен ясновидения и способности говорить на чужих языках, которые были самыми поразительными симптомами этой таинственной болезни.
В тот же день нам довелось побывать у исправника, и в ходе беседы мы упомянули об анадырской болезни и рассказали некоторые из историй, которые мы услышали от Падерина. Исправник, скептически относившийся вообще ко всему и особенно к этому, сказал, что он часто слышал об этой болезни, и что его жена твёрдо верила в неё, но, по его мнению, это был просто обман, который не заслуживал никакого другого лечения, кроме сурового телесного наказания. Русское крестьянство, по его словам, очень суеверно и верит во всё, что угодно, а анадырская болезнь была отчасти заблуждением, а отчасти хитростью, которую женщины применяли с корыстными целями. Например, женщина, которая хотела новую шляпку и не могла получить её обычными уговорами, находила очень удобным в качестве последнего средства впасть в транс и потребовать шляпку как физиологическую необходимость. Если муж всё ещё оставался непреклонным, нескольких хорошо исполненных конвульсий и пары песен на так называемом «якутском» оказывались достаточно убедительными. Затем он рассказал о русском купце, на жену которого напала анадырская болезнь и который действительно совершил путешествие зимой из Гижиги до Ямска на расстояние 300 верст, чтобы раздобыть шёлковое платье, о котором она просила! Конечно, женщины не всегда просят предметы, которые они обычно хотят в здоровом состоянии. Иначе это возбудило бы подозрения их мужей, отцов и братьев и привело бы к ненужным расспросам. Чтобы избежать этого и скрыть от мужчин истинную природу обмана, женщины часто просят собак, сани, топоры и подобные предметы, которые им на самом деле не нужны, и таким образом убеждают своих доверчивых родственников, что их требования управляются только болезненным капризом и не имеют в виду никакой определенной цели. Таково было рационалистическое объяснение, данное исправником любопытному явлению, известному как анадырская болезнь, и хотя оно лишь доказывало, что женщины более коварны, а мужчины – более доверчивы, чем я предполагал, я не мог не признать, что толкование это было довольно правдоподобным и объясняло большинство симптомов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: