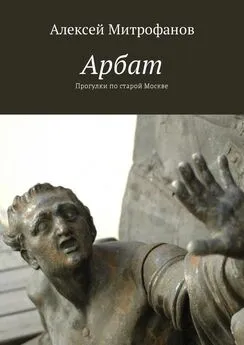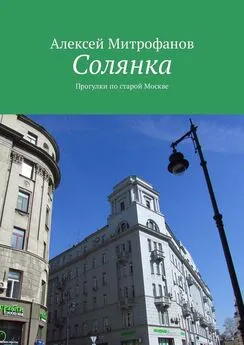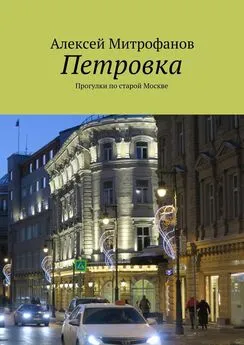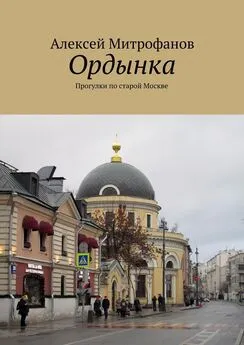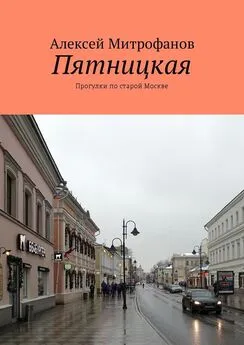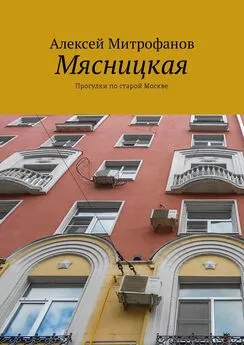Алексей Митрофанов - Покровка. Прогулки по старой Москве
- Название:Покровка. Прогулки по старой Москве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:2007
- ISBN:978-5-93136-047-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Митрофанов - Покровка. Прогулки по старой Москве краткое содержание
Покровка. Прогулки по старой Москве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Это имение было известным. Юрий Тынянов так описывал его: «В Москве, на Гороховом дворе, были у него построены палаты истинно боярские, из цельных дубовых брусьев; сад был в четыре версты, и в прудах плавала редкая рыба. Он жил среди картин, книг и цветов, изгнав жену, заточив сына в Шлиссельбургскую крепость и не допуская к себе никого, даже родственников, жил в гордости и одиночестве, пугавших хлопотливую Москву. Говорили о жестокости графа».
Так что не только усадьба, но и сам граф был достопримечательностью города.
Более подробно о дворце писал известный краевед М. И. Пыляев: «Дом этот занимал целый квартал, один сад этого большого дома имел в окружности более трех с половиной верст и занимал 43 десятины земли… На всем пространстве его были устроены боскеты, цветники, всевозможные прихотливые аллеи из искусственно подстриженных деревьев; широкие дорожки в нем начинались от дома, высоко насыпанные и утрамбованные, и мало-помалу все делались уже и уже и наконец превращались в тропинку, которая приводила к природному озеру, или на лужайку, усеянную дикими цветами, или к холмику, покрытому непроницаемым кустарником, или вела к крутому берегу реки Яузы».
Берег Яузы смотрелся дико, и в том был особый шарм. Ни обустроенных купален, ни беседок, ни ухоженных дорожек. Только безобразные овраги, буераки и непроходимые кустарники. Противоположный берег Яузы тоже был собственностью Разумовского. Там высились кущи вековых деревьев.
В подмосковной усадьбе графа, в Горенках стояли аккуратные оранжереи, в которых Алексей Кириллович, будучи увлеченным садоводом, сам разводил апельсины и прочие редкостные растения. Он даже вывел новый сорт можжевельника, который назвал по своей фамилии – Rasoumovia. А помогал ему садовник Шпрегнель, более известный как создатель ботанического сада города Санкт-Петербурга.
Здесь же, в Москве, все было нарочито дико.
Зато во дворце хранилась бесподобная коллекция картин, а также бронзы, гобелены, статуи и потрясающий фарфор. В собрании фарфора находился, например, сервиз Екатерины, заказанный царицей в Дрездене.
Собрание, конечно, было действующим. С этого сервиза ели.
Обреталось тут и книжное собрание. Один из современников писал, что только каталог томов пятнадцатого века представлял из себя очень даже толстый фолиант.
Однако сам Разумовский был до чтения не большой охотник. Он предпочитал более натуральные забавы.
Со смертью барина усадьба пошла по рукам, стремительно теряя лоск и роскошь. В конце концов здесь разместился «приют для призрения сирот обоего пола чиновников, умерших от холеры», а также «малолетнее отделение Института обер-офицерских сирот», фельдшерская школа, богадельня и учительская семинария. В величественных залах поселились тоненькие робкие девчушки в одинаковых передничках. И, разумеется, дворец покинула его былая слава.
Жилище затворника
Сад имени Баумана (Старая Басманная улица, 15) возник на рубеже 1910-х – 1920-х годов.
Один из самых милых садиков Москвы – так называемый Бауманский сад. Возник он очень необычным образом. До революции улицы Старая и Новая Басманные были застроены, по большей части, барскими особняками – не особенно богатыми, однако и не сказать, чтоб слишком аскетичными. Задние дворы этих особняков, как правило, были садами: там выращивали цветы, ягоды, деревья – кто во что горазд. Сады граничили друг с другом, и владельцы часто видели своих соседей, отдыхающих в тени раскидистых дубов и вязов. Можно сказать, что это был особенный московский мир. Или мирок.
После революции усадьбы, разумеется, национализировали. Разобрали и ограды между садиками. И в результате вышел один большой сад – тоже, естественно, национализированный. Поначалу он носил название Первомайского, а в 1922 году саду присвоили имя революционера Н. Баумана. На рубеже восьмидесятых – девяностых годов прошлого столетия, когда по всей стране вели борьбу с «советскими» названиями, до этого сада руки не дошли. Ну а сейчас и вовсе не до этого. Бауманский – и Бауманский. И все тут. Это не мешает ни вечерним разудалым развлечениям, ни дневным прогулкам мам с колясками, ни утренним пробежкам «от инфаркта».
И мало кто сегодня вспоминает, что на месте нынешнего парка в одном из многочисленных флигелей жил знаменитый и трагичный философ Чаадаев.
* * *
Петр Чаадаев родился в 1794 году. По словам своего современника Жихарева, «только что вышедши из детского возраста, он уже начал собирать книги и сделался известен всем московским букинистам, вошел в сношения с Дидотом в Париже, четырнадцати лет от роду писал к незнакомому ему тогда князю Сергею Михайловичу Голицыну о каком-то нуждающемся, толковал со знаменитостями о предметах религии, науки и искусства».
Петр Яковлевич ходил на лекции в Московский университет, общался с декабристами, но слишком уж активной деятельности не развивал. Правда, имел довольно четкую позицию по поводу устройства политического. Он, к примеру, писал брату в 1820 году: «Еще одна большая новость – этой новостью полон весь мир: испанская революция кончена, король принужден подписать конституционный акт 1812 г. Целый народ восстал, в три месяца разыгрывается до конца революция, – и ни капли крови пролитой, никакой резни, ни потрясений, ни излишеств, вообще ничего, что могло бы осквернить это прекрасное дело, – что ты об этом скажешь? Вот разительный аргумент в деле революции, осуществленный на практике».
Во время декабрьского восстания 1825 года Петр Яковлевич находился за границей, а в 1826 году вернулся к себе на родину, в Москву. Герцен писал: «Когда Чаадаев возвратился, он застал в России другое общество и другой тон. Как молод я ни был, но я помню, как наглядно высшее общество пало и стало грязнее, раболепнее с воцарением Николая. Аристократическая независимость, гвардейская удаль александровских времен – все это исчезло с 1826 годом… Друзья его были на каторжной работе. Он сначала оставался совсем один в Москве, потом вдвоем с Пушкиным, наконец, втроем, с Пушкиным и Орловым. Чаадаев показывал часто, после смерти обоих, два небольших пятна на стене над спинкой дивана: тут они прислоняли голову».
Чаадаев сразу сделался одной из главных достопримечательностей города. Д. Н. Свербеев вспоминал: «Возвратясь из путешествия, Чаадаев поселился в Москве и вскоре, по причинам, едва ли кому известным, подверг себя добровольному затворничеству, не видался ни с кем и, нечаянно встречаясь в ежедневных своих прогулках по городу с людьми самыми ему близкими, явно от них убегал или надвигал себе на лоб шляпу, чтобы его не узнавали».
Но его, однако, узнавали. И, более того, часто наведывались в гости. Будучи домоседом, Чаадаев, случалось, принимал довольно многолюдные компании. В мемуаристике иной раз можно встретить и упоминания о неком «чаадаевском салоне», хотя это было преувеличением.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: