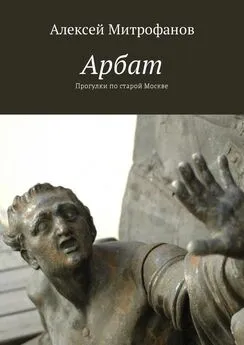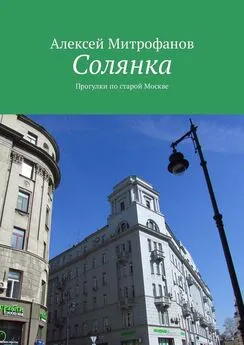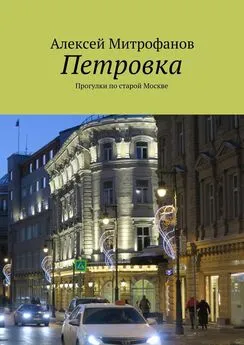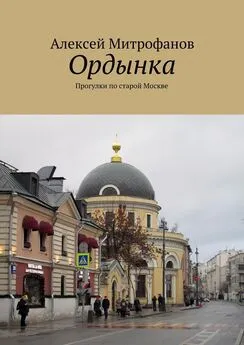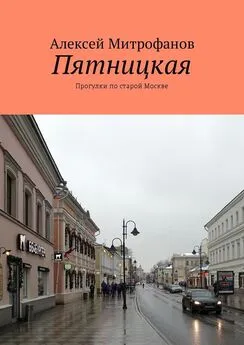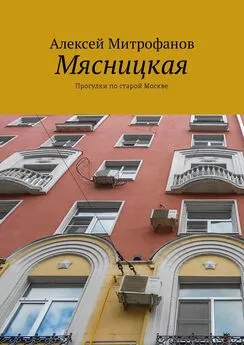Алексей Митрофанов - Покровка. Прогулки по старой Москве
- Название:Покровка. Прогулки по старой Москве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:2007
- ISBN:978-5-93136-047-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Митрофанов - Покровка. Прогулки по старой Москве краткое содержание
Покровка. Прогулки по старой Москве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Гостей Чаадаев шокировал своими суждениями. Тот же Свербеев сообщал: «Он не скрывал в своих резких выходках глубочайшего презрения ко всему нашему прошедшему и настоящему и решительно отчаивался в будущем. Он обзывал Аракчеева злодеем, высших властей военных и гражданских – взяточниками, дворян – подлыми холопами, духовных – невеждами, все остальное – коснеющим и пресмыкающимся в рабстве».
Кроме того, Петр Яковлевич поражал своими афоризмами, которые передавались, что называется, из уст в уста.
«Есть умы столь лживые, что даже истина, высказанная ими, становится ложью».
«Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать».
«Надеяться на Бога есть единственный способ в него верить, и потому кто не молится, тот не верит».
«Помните ли, что было с вами в первый год вашей жизни? – Не помню, говорите вы. – Ну что же мудреного, что вы не помните, что было с вами прежде вашего рождения?»
Последняя «эзотерическая» мысль в православном (а не светском) государстве, которым в те времена была Россия, являлась проявлением крайней крамолы. Но Чаадаева никто не трогал: сидит себе философ тихонько в собственном домике – и пусть дальше сидит. Тем более, общим кумиром и властителем московских дум он не был. Свербеев вспоминал один весьма своеобразный случай: «Я помню, как ленивый и необщительный Гоголь, еще до появления своих „Мертвых душ“, приехал в одну среду вечером к Чаадаеву. Долго на это он не решался, сколько ни упрашивали общие приятели упрямого малоросса; наконец он приехал и, почти не обращая никакого внимания на хозяина и гостей, уселся в углу на покойное кресло, закрыл глаза, начал дремать и потом, прохрапев весь вечер, очнулся, пробормотал два-три слова в извинение и тут же уехал. Долго не мог забыть Чаадаев такого оригинального посещения».
Но, тем не менее, Чаадаева ценили. Писатель М. А. Дмитриев сообщал: «Чем же был знаменит в Москве Чаадаев? – Умом, не говоря о других его качествах и чистоте его жизни. Вопреки мелочной зависти, которая у нас так сильна в обществе, и вопреки предубеждению против людей светских, пример Чаадаева доказывает, что и у нас достоинствам человека знают цену. Чаадаев был не богат, не знатен; а не было бы путешественника, который не явился бы к нему, просто как к человеку, известному своим умом, своим просвещением. Это была в Москве умственная власть».
* * *
В 1831 году Чаадаев поселился во флигеле у Левашовых, на Басманной улице. Жихарев вспоминал: «Семейство Левашовых было одним из старинных… дворянских московских семейств, о которых не только существование, но и память в настоящую минуту начинает уже исчезать. Оно жило… в собственном пространном доме, со всех сторон окаймленном огромным вековым садом и снабженном несколькими дворами… содержа около полсотни человек прислуги, до двадцати лошадей, нескольких… коров».
Незаурядной была и хозяйка дома, Екатерина Левашова. Герцен о ней писал: «Е. Г. Левашова принадлежала к тем удивительным явлениям русской жизни, которые мирят с нею, которых все существование – подвиг, никому не ведомый, кроме небольшого круга друзей. Сколько слез утерла она, сколько внесла утешений не в одну разбитую душу, сколько юных существований поддержала она и сколько сама страдала».
Чаадаеву же отвели довольно симпатичный флигель, где он мог спокойно жить и принимать гостей. Литературовед Д. Н. Свербеев утверждал: «Кто бы ни проезжал через город из людей замечательных, давний знакомец посещал его, незнакомец спешил с ним знакомиться. Кюстин, Морген, Мармье, Сиркур, Мериме, Лист, Берлиоз, Гакстгаузен – все у него побывали».
Казалось бы, созданы все условия для того, чтобы Чаадаев и впредь вел полузатворнический образ жизни, принимая у себя иной раз избранного посетителя. Однако же одновременно с переездом к Левашовым Чаадаев вдруг перестает быть домоседом. Он то и дело появляется в салонах, совершает прогулки на людных бульварах, ходит в Английский клуб. Его брат Михаил Яковлевич полагал, что главная причина – в улучшении здоровья. Он с радостью сообщал в одном из писем: «Могу вас уведомить, что брат теперешним состоянием здоровья своего очень доволен в сравнении с прежним, даже полагает, что он от жестоких припадков (геморроидальных), которыми страдал, совсем избавился. Аппетит у него очень, даже мне кажется – слишком хорош, спокойствие духа, снисходительность, кротость – какие в последние три года редко в нем видел. Цвет лица нахожу гораздо лучше прежнего, хотя все еще очень худ, но с виду кажется совсем стариком, потому что почти все волосы на голове вылезли».
Что поделаешь, философы лысеют рано.
Так или иначе, образ жизни Чаадаева сменился радикально. Павел Нащокин писал Пушкину, что Петр Яковлевич «ныне пустился в люди – всякий день в клубе» (имеется
в виду, естественно, Английский клуб). А в другом письме тот же Нащокин сообщал: «Чаадаев всякий день в клубе, всякий раз обедает; в обхождении и в платье переменил фасон, ты его не узнаешь».
Именно к этому периоду относится довольно колоритная характеристика, данная Чаадаеву А. Герценом: «Печальная и самобытная фигура Чаадаева резко отделяется каким-то грустным упреком на линючем и тяжелом фоне московской high life. Я любил смотреть на него средь этой мишурной знати ветреных сенаторов, седых повес и почтенного ничтожества. Как бы ни была густа толпа, глаз находил его тотчас. Лета не исказили стройного стана его; он одевался очень тщательно; бледное, нежное лицо его было совершенно неподвижно, когда он молчал, как будто из воску или мрамора; „чело, как череп голый“, серо-голубые глаза были печальны и с тем вместе имели что-то доброе; тонкие губы, напротив, улыбались иронически. Десять лет стоял он, сложа руки, где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе – и воплощенным veto, живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него, капризничал, делался странным, отчуждался от общества, не мог его покинуть… Старикам и молодым было неловко с ним, не по себе; они, Бог знает отчего, стыдились его неподвижного лица, его прямо смотрящего взгляда, его печальной насмешки, его язвительного снисхождения».
Блистательный историк М. О. Гершензон так охарактеризовал роль, которую в то время играл Чаадаев: «Он быстро занял в московском обществе то своеобразное положение, которое удержал до конца дней своих, – положение вполне светского человека и вместе учителя». Притом учителя, поставленного обществом на недосягаемую высоту. Одна из «учениц» ему писала: «Вы живете среди людей, и этого не следует забывать. Большинство из них беспрестанно следят за малейшими вашими поступками и зорко наблюдают всякое ваше движение в надежде подметить что-нибудь, что хоть до некоторой степени поставило бы вас на один уровень с ними. Это печальный результат уязвленного самолюбия, как бы моральная лень, предпочитающая унизить вас до себя, нежели самой возвыситься по вашим следам. Поэтому вы должны чрезвычайно внимательно взвешивать каждый ваш поступок».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: