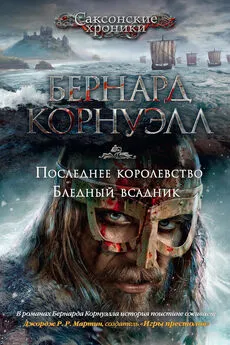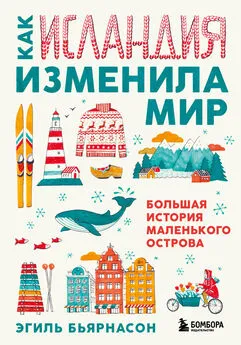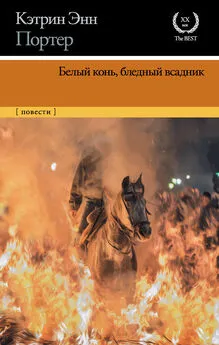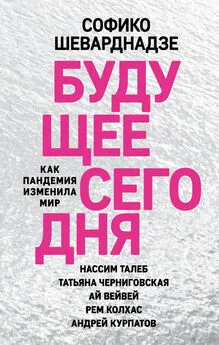Лаура Спинни - Бледный всадник: как «испанка» изменила мир
- Название:Бледный всадник: как «испанка» изменила мир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-133984-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лаура Спинни - Бледный всадник: как «испанка» изменила мир краткое содержание
Бледный всадник: как «испанка» изменила мир - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Злейшими врагами общепринятой медицины зарекомендовали себя последователи Христианской науки [396] Основанное в 1879 г. в Бостоне американской писательницей Мэри Бэйкер Эдди (1821–1910) либерально-протестантское религиозное движение Церковь Христа-Ученого, в обиходе часто именуемое «Христианской наукой», основано на дополнении Священного Писания в протестантском прочтении каноническим трактатом основательницы «Наука и здоровье с ключом к Священному Писанию». Важно не путать «сайентизм» с «сайентологией» – новым религиозным движением гностического типа, основанным в 1954 г. в Лос-Анджелесе писателем-фантастом Л. Роном Хаббардом (1911–1986), возводящим в статус культа идеи ранее разработанного им учения о дианетике и имеющего все признаки одновременно псевдонаучной теории и тоталитарно-деструктивной секты.
, отринувшие медицинские вмешательства как таковые. По завершении пандемии «христианские ученые» провозгласили молитву единственным действенным средством от болезни, доказавшим свое безоговорочное превосходство над общепринятыми методами лечения, и число их последователей на этот раз стало расти как на дрожжах – и в родной Америке, и за рубежом. Зародились и новые движения верующих в исцеление молитвой. Филадельфию грипп в октябре 1918 года опустошал с особой свирепостью, но в те самые дни, когда New York Times трубила о крахе науки, Sword of the Spirit [397] «Меч [Святого] Духа» (англ.).
, рупор пятидесятников из «Ковчега веры» [398] Не следует путать с одноименной евангелистской «мегацерковью» на 50 000 стоячих мест в Земле обетованной (Canaanland) в штате Огун, на юго-западе Нигерии, построенной и открытой в 1999 году местным бизнесменом, архитектором и проповедником Давидом О. Оедепо (р. 1954), ставшей главным храмом Всемирной церкви живой веры (более известной как «Церковь победителей»), основанной им же в 1983 году и объявленной « нео харизматической», в то время как первоначальное движение позиционировало себя просто «харизматическим».
со штаб-квартирой как раз в Филадельфии, опубликовал подборку рассказов о «благодатных исцелениях» под заголовком «Бог свидетель: исцеление даруется свыше». В том году «Ковчег веры» причалил к Золотому Берегу (современная Гана) и прочно там обосновался, хотя реального исцеления на своем борту не принес, свидетельством чему 100 000 жертв гриппа (оценочно) среди местного населения за второе полугодие 1918 года, а затем быстро распространил поле своей миссионерской деятельности на соседние Того и Берег Слоновой Кости. К концу 1920-х годов сам «Ковчег веры» сдулся, однако дело его живет в африканском пятидесятническом движении, делая основной упор на донесение до народов Благой вести о спасении, свидетельствуя о нем через явленные дары Духа – целительство и говорение языками.
Многие африканцы в 1918 году пережили кризис восприятия действительности, обусловленный, как принято теперь говорить, «когнитивным диссонансом»: христианские миссионеры и привезенная ими западная медицина учили одному; их собственные колдуны, знахарки и целители – совсем другому; но ни те, ни другие так и не сумели вразумительно ответить на вопросы, как, почему и за что обрушилась на них эта кара и кто им ее ниспослал [399] T. Ranger, ‘The Influenza Pandemic in Southern Rhodesia: a crisis of comprehension’, in Imperial Medicine and Indigenous Societies (Manchester: Manchester University Press, 1988).
. Вот и появились пророки нового поколения, предлагавшие принципиально новый взгляд на мир. Чудом пережившая грипп Нонтетха Нквенкве как раз и являлась яркой представительницей этой категории провидцев в Южной Африке, а закончилась трагическая история ее жизни в удушающих объятиях западной медицины. Но не одни африканцы переживали тяжелый интеллектуальный кризис. «Викторианская наука оставила бы лишь выметенный дочиста твердокаменный голый мир наподобие лунного пейзажа, – писал в 1921 году сэр Артур Конан Дойл, – но эта наука – воистину не более чем слабенький светильник в бескрайней тьме, а за пределами этого весьма ограниченного круга света твердого знания нам мерещатся смутные очертания колоссальных и фантастических возможностей, и отбрасываемые ими тени непрерывным потоком проплывают через наше сознание, да еще и такими путями, что ни отделаться от них, ни игнорировать их решительно невозможно» [400] A. Conan Doyle, ‘The Evidence for Fairies’, Strand Magazine, 1921.
.
Конан Дойл, создатель образа Шерлока Холмса, самого научно подкованного из всех детективов в классике жанра, узнав о смерти сына на фронте от «испанки», прекратил писать беллетристику и всецело посвятил себя спиритуализму – вере в общение с духами умерших. Спиритуализм был популярен и в XIX веке, но после 1918 года обрел мощное второе дыхание, причем не без подначки со стороны науки: ведь если Альберт Эйнштейн прав и время – действительно четвертое измерение единого и связного пространства-времени, значит, можно каким-то образом перемещаться и во времени (и к тому же, если есть четвертое измерение, почему бы не быть еще каким-то измерениям, в которых находят приют неупокоенные души умерших?). В 1926 году Конан Дойл был приглашен Научным обществом Кембриджского университета выступить с докладом об эктоплазме как материальной основе всех психических феноменов, однако выслушали его ученые хоть и вежливо, но скептически. [401] M. Hurley, ‘Phantom Evidence’, CAM, Easter 2015; 75:31.
В целом 1920-е годы были временем интеллектуальной открытости и проверки границ постижимого на устойчивость к попранию и раздвижению. В 1915 году в общей теории относительности Альберт Эйнштейн постулировал исключительную субъективность наблюдателя. Через десять лет после испанского гриппа Вернер Гейзенберг с подачи Нильса Бора сформулировал принцип неопределенности точного местонахождения элементарных частиц в пространстве. Любой ученый, переживший пандемию, а тем более внявший проницательному логическому построению Эмиля Ру касательно êtres de raison (сущностей, выявляемых исключительно методом дедукции по производимым ими эффектам), сознавал к тому времени, что добротная наука требует открытости и широты ума, безупречной строгости эксперимента и разумной дозы здравого смирения.
За то, что такие идеи носились в послевоенном воздухе, благодарить нужно отчасти еще и понтифика. К 1919 году от процветавшего перед войной международного научного сообщества не осталось и следа. К участию в считаных международных конференциях, все-таки состоявшихся в том году, немецких и австрийских ученых не допускали. Что до Римско-католической церкви, то в 1914 году Ватикан вызвал бурное раздражение обеих сторон, заявив о нейтралитете, и в 1921 году, желая ускорить восстановление всеобщего мира и согласия, а заодно реинтегрироваться в международную жизнь, папа Бенедикт XV воскресил совсем было зачахшую Accademia dei Lincei [402] Академия рысьеглазых (итал.) – обиходное название учрежденной в 1603 г. светской Academia Lynceorum (то же самое по-латыни), прекратившей существование в середине XVII в., а в XIX в. воссозданной в двух ипостасях – Папской и Национальной королевской академий, которые при Муссолини на некоторое время организационно объединялись, вследствие чего в настоящее время и Национальная (Рим), и Папская (Ватикан) академии претендуют на право вести свою родословную от старейшей Accademia dei Lincei .
, предшественницу современной Национальной академии наук. Понтифик возложил на академиков миссию восстановления международных научных связей, усматривая в непредвзятом поиске объективной истины идеальную почву для налаживания диалога, но в выборе благословляемых им предметов научного рассмотрения Бенедикт XV был крайне щепетилен. Лишь точные и естественные науки – физика, химия, физиология – соответствовали предъявляемым им критериям «чистоты эксперимента», а значит, могли поспособствовать постижению Божьего замысла. Всяческие же социально-прикладные дисциплины, претендующие на решение человеческих проблем, были с его точки зрения подвержены субъективизму, и, как следствие, их развитие неизбежно повлекло бы за собой воспроизведение в человеческом мире напряженных противоречий, приведших к развязыванию мировой войны [403] M. Launay, Benoît XV (1914–1922): Un pape pour la paix (Paris: Les Éditions du Cerf, 2014), p. 99.
.
Интервал:
Закладка:
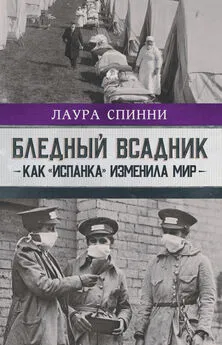
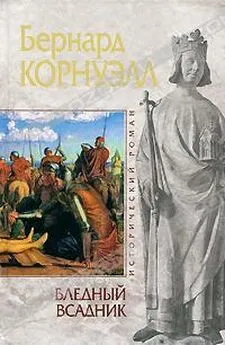
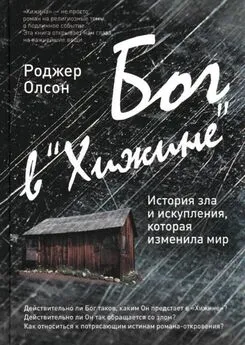
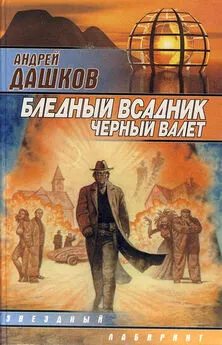

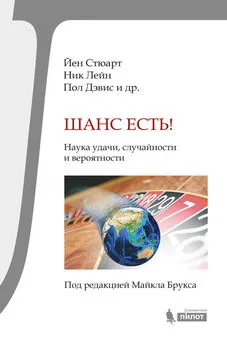
![Бернард Корнуэлл - Бледный всадник [litres]](/books/1084197/bernard-kornuell-blednyj-vsadnik-litres.webp)