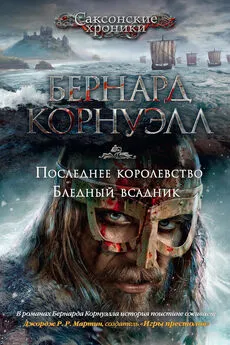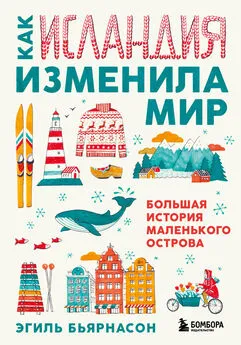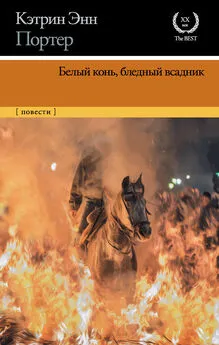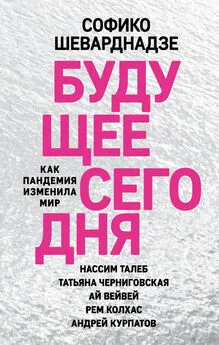Лаура Спинни - Бледный всадник: как «испанка» изменила мир
- Название:Бледный всадник: как «испанка» изменила мир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-133984-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лаура Спинни - Бледный всадник: как «испанка» изменила мир краткое содержание
Бледный всадник: как «испанка» изменила мир - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Можно, конечно, просто закрыть этот вопрос, сославшись на процитированное ранее высказывание Андре Моруа: «Умы различных поколений непроницаемы друг для друга в той же мере, что и монады Лейбница». Но все-таки две вещи обращают на себя особое внимание. Во-первых, все мало-мальски известные писатели, которых 1918 год застиг во взрослом и сознательном возрасте, так или иначе были людьми серьезно больными. Тот же Фицджеральд страдал туберкулезом, как и Анна Ахматова, и Кэтрин Мэнсфилд; Герман Гессе был признан негодным к строевой воинской службе в 1914 году, а тремя с половиной годами позже эту сомнительную честь разделил с ним и Хемингуэй; Рабиндранат Тагор еще до войны потерял жену и нескольких детей, умерших кто от туберкулеза, кто от оспы, кто от холеры; у Луиджи Пиранделло и Т. С. Элиота лишились рассудка жены. Так что можно сказать, что Климт, с оружием в руках вставший на пути приставов, пришедших изъять у него «Медицину» в пользу государства, «высказался» от лица всего поколения.
Во-вторых, писатели, заставшие 1918 год во взрослом возрасте, были воспитаны на романтических традициях, своеобразную итоговую черту под которыми подводит роман Томаса Манна «Волшебная гора», начатый им в 1912 году, хотя и завершенный уже по окончании войны, а опубликованный лишь в 1924 году. Туберкулез, мучающий обитателей санатория в альпийском высокогорье, служит аллегорией морального упадка Европы накануне Первой мировой войны. Для романтиков образ телесных недугов всегда служил лишь метафорическим символом душевной болезни. С медицинской точки зрения болезни их вовсе не интересовали, вероятно, еще и потому, что сами романтики с ними даже свыклись, погрязнув в них по уши. Слишком близкими к ним лично были болезни, чтобы их увидеть, не говоря уже о том, чтобы рассмотреть. Однако времена менялись стремительно. Через год после выхода в свет «Волшебной горы» всю жизнь наблюдавшаяся у психиатров британская писательница Вирджиния Вульф опубликовала эссе «О бытии в болезни», где в первых же строках поставила вопрос о причинах, по которым литература обходит стороной столь богатую почву для исследований [445] В этом эссе, опубликованном в январском (1926 г.) выпуске ежеквартального альманаха «Критерий» под редакцией Т. С. Элиота, который в тот раз вышел под многообещающим названием «Новый критерий» ( The New Criterion ), Вирджиния Вульф (1882–1941), отступая от привычного стиля «поток сознания», сама же и дает ясный и четкий ответ на поставленный вопрос: писатели привыкли замыкаться в башне чистого разума и формулировать стройные мысли, забыв о теле, «либо пинками гнать свое тело, как потрепанный футбольный мяч, через лиги пустынных снегов и песков в погоне за победами или открытиями». В болезни же тело «ведет войну само за себя» и обращает разум в раба. «Чтобы открыто взглянуть этой правде в лицо, нужны смелость укротителя львов; крепкая философия; рассудок, идущий из самых недр земли. Без них чудовище-тело и кудесница-боль быстро заставят нас погрузиться в мистицизм или вознестись, трепеща крылышками, к зияющим высотам трансцендентного. Проще говоря, публика назвала бы роман, посвященный гриппу, бессюжетным; читатели жаловались бы на то, что в нем нет любви, – ошибочно, впрочем, ведь болезнь весьма часто прикидывается любовью…»
:
«Учитывая, насколько распространена болезнь, сколь колоссальное духовное изменение она приносит, насколько это потрясающе, когда меркнут огни здоровья и открываются взору ранее неведомые страны, <���…> представляется воистину странным, что болезнь не заняла своего законного места в одном ряду с любовью, битвами и ревностью среди главных тем литературы» [446] V. Woolf, «On Being Ill», The New Criterion, 1926(I): 32–46.
.
Заданный ею вопрос, однако, очень скоро утратил актуальность, поскольку как раз в 1920-е годы болезнь начала выдвигаться на авансцену литературы – и отныне не в роли символа (или не только в этой роли), но и во всей своей гнусной, пошлой и страшной реальности. И сама Вульф внесла вклад в этот перелом, исследовав больную психику героини в романе «Миссис Дэллоуэй» (1925). И джойсовский «Улисс» (1922) густо и остро приправлен физиологическими аллюзиями, свидетельствующими о глубоком нездоровье и всяческих функциональных расстройствах героя, и у Юджина О’Нила в пьесе «Соломинка» (1919), написанной под впечатлением от лечения в туберкулезном санатории, болезнь не служит метафорическим олицетворением ада, она сама и является сущим адом. «Он видит жизнь колеблющейся и тускло мерцающей – и при этом беспросветно черной», – писал в 1921 году об O’Ниле и его творчестве один критик [447] W. L. Phelps, ‘Eugene O’Neill, Dramatist’, New York Times, 19 June 1921.
.
Что послужило толчком к столь мощному сдвигу в художественном восприятии и отражении болезни? Не вирус ли, метлой прошедшийся по земному шару в 1918 году, впечатал инфекционную болезнь в человеческое сознание в образе неумолимого рока и высветил зияющую пропасть между победоносными реляциями ученых-медиков и гнетущей реальностью? Конечно, грипп был не единственной инфекционной болезнью, причинявшей людям той эпохи тяжкие страдания и сеявшей смерть и горе. Были и другие – прежде всего, двойное проклятие туберкулеза и венерических болезней, – но они все-таки носили хронический характер тлеющей и медленно убивающей смерти, а не обрушивались, как цунами, и не производили стремительного опустошения, чтобы схлынуть, оставив после себя летаргическое забытье и отчаяние, и затаиться невесть где до прихода следующей сокрушительной волны.
Пандемия русского гриппа начала 1890-х годов, как утверждается, внесла немалый вклад в формирование декадентских настроений, свойственных la fin de siècle [448] Конец века (фр.).
, когда по всей Европе разлились холодный цинизм и тоскливое томление духа [449] F. B. Smith, ‘The Russian Influenza in the United Kingdom, 1889–1894’, Social History of Medicine, 1995; 8(1):55–73.
. Ну так русский грипп унес около миллиона жизней, а испанский как минимум в пятьдесят раз больше. Нам неведомо, сколько выживших страдало впоследствии синдромом хронической усталости и другими психоневрологическими осложнениями, но, вероятно, таких было очень и очень много. И едва ли они на фоне расстроенной психики забывали о том, насколько загадочно случайным образом грипп выхватывал из числа близких свои жертвы в ходе розыгрыша этой смертельной лотереи. Психологи описывают состояние людей, оказавшихся в заложниках у террористов, выбирающих жертву для очередной расправы из их числа случайным образом, термином «выученная беспомощность». По их мнению, выученная беспомощность неизбежно приводит к депрессии.
Если вглядеться внимательно, следы испанского гриппа найдутся в текстах практически всех писателей, кто его пережил, а у многих еще, вероятно, и первые признаки грядущего переворота в мировосприятии. Дэвид Герберт Лоуренс остался после гриппа на всю жизнь со слабым сердцем и легкими, «наградив» такой же проблемой со здоровьем егеря Оливера Меллорса из романа «Любовник леди Чаттерлей» (1928). Кэтрин Энн Портер лишь через двадцать лет написала повесть «Бледный конь, бледный всадник» (1939), где поведала, во что обошлась ей перенесенная в двадцативосьмилетнем возрасте в Денвере, Колорадо, болезнь (черные волосы на голове выпали все до единого, хотя со временем и отросли новые – редкие и седые), и в том же 1939 году на другом краю света японский писатель-авангардист Санэацу Мусянокодзи из литературной группы «Сиракаба» («Белая береза») опубликовал рассказ о молодом человеке, узнавшем по возвращении из путешествия по Европе о смерти любимой от гриппа в его отсутствие. Незатейливо озаглавленный «Любовь и смерть», рассказ этот крайне популярен и поныне благодаря пронзительности описания внезапного превращения безоблачно-счастливого и светлого мира героя в кромешный мрак.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
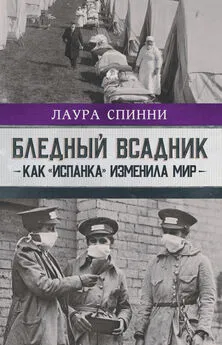
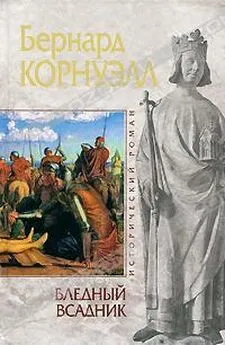
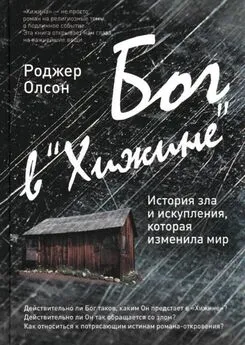
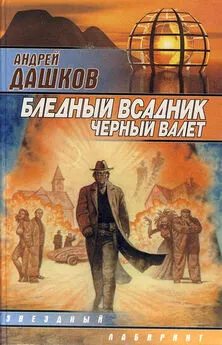

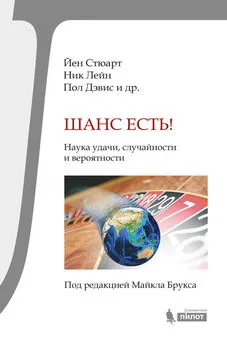
![Бернард Корнуэлл - Бледный всадник [litres]](/books/1084197/bernard-kornuell-blednyj-vsadnik-litres.webp)