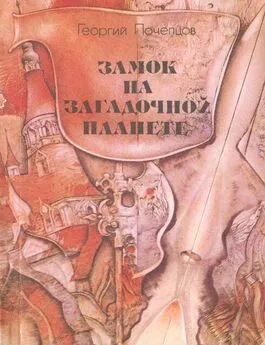Георгий Почепцов - КГБ Андропова с усами Сталина: управление массовым сознанием
- Название:КГБ Андропова с усами Сталина: управление массовым сознанием
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Фолио
- Год:2020
- Город:Харьков
- ISBN:978-966-03-9119-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Почепцов - КГБ Андропова с усами Сталина: управление массовым сознанием краткое содержание
Книга основана на свидетельствах очевидцев и аналитических исследованиях специалистов.
КГБ Андропова с усами Сталина: управление массовым сознанием - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Он даже считает, что песня Цоя о переменах не была случайной: «Именно тогда, в 1987 году, была объявлена гласность и началось противостояние в верхах между либералами (Горбачев, Яковлев) и консерваторами (Лигачев, Соколов). КГБ был на стороне горбачевцев. Поэтому и началась раскрутка рокеров в СМИ — они все были за Горбачева и либералов. Рокеры (тот же Цой) призывали к переменам — двигать страну по пути демократизации (а на самом деле — капитализации). Фильм „АССА” вышел на экраны страны в апреле 1988 года, когда либералы уже вовсю громили консерваторов и ХIХ партконференция дала новый импульс переменам Горбачева».
Однако нам представляется, это уже слишком сложное конструирование действительности. Собственно говоря, точно так смотрит на творчество Стругацких и С. Кургинян, считая, что они выполняли свою роль в обработке молодого технократического поколения
Он пишет: «Стругацкие же в этом процессе выполняли пусть относительно второстепенную, но очень сложную и необходимую функцию, поскольку речь шла о технократах — а основное ядро нашего потенциально революционного актива, этого советского когнитариата, было технократическим. Советская коммунистическая номенклатура боялась гуманитарных наук, потому что развивать их, не развивая обществоведение, было невозможно. А технические науки развивать надо было. Поэтому технократам давали больше участия во власти, денег, социальных благ, чем гуманитарным пластам, которые находились в очень убогом состоянии. Гуманитарный „мэйнстрим” занимали ортодоксы самого худшего разлива или диссидентствующие группы, которые мимикрировали под ортодоксию. Все, что могло и должно было развиваться, отправлялось куда-то далеко на отшиб. А те, кто делал ракеты, компьютеры и все, необходимое для защиты от Америки, — все-таки получали свою дозу кислорода. В результате, с одной стороны, советская технократия была живой и энергичной, а с другой — безумно оторванной от серьезной гуманитарной культуры. Но — это уже в-третьих — страстно охочей до оной. И, наконец, в-четвертых, — лишенной серьезного гуманитарного вкуса в силу своей технократической односторонности. Сочетание всего этого приводило к тому, что от Стругацких они балдели на счет „раз”» [14].
Мы можем принять это только как гипотезу, поскольку если бы были задействованы такие мощные интеллектуальные силы и такие сложные конструкции, то вряд ли так печально двигалась постсоветская история. Этих анонимных мощных интеллектуалов Запад легко переиграл, убрав СССР из списка ведущих стран мира.
Мир любит сильных, в том числе сильных интеллектуально. Но если ты не способен выстроить нормально даже свою собственную страну, куда тебе браться за руководство миром.
Н. Яковлев, историк, автор ряда книг, написанных по «заказу» КГБ о ЦРУ и масонах, пишет: «Андропов многократно повторял мне, что дело не в демократии, он первый стоит за нее, а в том, что позывы к демократии неизбежно вели к развалу традиционного российского государства. И не потому, что диссиденты были злодеями сами по себе, а потому что в обстановке противостояния в мире они содействовали нашим недоброжелателям, открывая двери для вмешательства Запада во внутренние проблемы нашей страны».
В этих рассуждениях мы вновь выходим на неконтролируемые информационные и виртуальные потоки, которые беспокоили КГБ, поскольку партийные органы могли поставить им это в вину.
Л. Млечин комментирует слова Яковлева: «Если бы профессор Яковлев изучал не американскую историю, а отечественную, он бы увидел, что такие же беседы российские жандармы вели с революционерами. Иногда они преуспевали — тогда революционер соглашался сотрудничать с полицией. Конечно, для этого нужна некая предрасположенность: не только страх перед властью, но и ненависть и зависть к окружающим, комплекс недооцененности, желание занять место в первом ряду. Судя по записям Яковлева, из Андропова, хотя председатель КГБ и дня не был на оперативной работе, получился бы вполне успешный вербовщик [15].
Интересно, что Андропов настаивал именно на стратегических текстах, как пишет Яковлев: «Председатель настаивал, что нужно остановить сползание к анархии в делах духовных, ибо за ним неизбежны раздоры в делах государственных. Причем делать это должны конкретные люди, а не путем публикации анонимных редакционных статей. Им не верят. Нужны книги, и книги должного направления, написанные достойными людьми».
Мы живем в мире, где в большинстве случаев сильные коммуникации побеждают слабые. Именно это было главной защитой СССР, поскольку был создан монополизм информации. Все видели то, что должны были обязательно увидеть. Любое альтернативное мнение требовало дополнительных усилий, чтобы на него выйти. Поэтому КГБ никогда не любило группы и организации, поскольку нахождение в кругу себе подобных облегчало выход на альтернативную информацию.
М. Дейч повторяет известный разговор о С. Королеве: «Ярослав Голованов, биограф космического конструктора Сергея Королева, пытался познакомиться в КГБ с его делом, поскольку Королев в свое время тоже был репрессирован. Добиваясь разрешения, Голованов добрался до Бобкова. „Зачем вам это?” — спросил журналиста первый заместитель председателя КГБ Филипп Бобков. „Затем, что это правда”, — ответил Голованов. „Такая правда советским людям не нужна”, — отрезал будущий автор книги „КГБ и власть”» [16]. Как видим, и Бобков отнюдь не был таким паинькой, как пытается изобразить себя в своих мемуарах.
Жесткая структура типа КГБ лишь вынужденно может прибегать к мягким методам. Да и то эти мягкие методы часто становились идеологической инквизицией, поскольку поставленную задачу все равно приходилось выполнять, поэтому и методы должны были ужесточаться при сопротивлении «объекта воздействия».
Н. Петров рассказывает историю создания Пятого управления: «Когда Андропов только пришел, он произнес замечательную фразу: „Противники пытаются подтачивать советское общество с помощью средств и методов, которые с первого взгляда не укладываются в наши представления о враждебных действиях. Более того, можно сказать, что противник ставит своей целью на идеологическом фронте действовать так, чтобы по возможности не преступать наших законов, действовать в их рамках, и тем не менее действовать враждебно”. Что значат эти его слова? А то, что не важно, нарушаешь ты закон или нет. Если ты действуешь „враждебно”, тобой будут заниматься органы КГБ. Андропов написал записку в ЦК, где говорил о том, что линия борьбы с идеологической диверсией ослаблена. И что надо создать специальное управление, которое бы этой борьбой занималось. В ЦК КПСС предложение Андропова одобрили, и в июле 1967 года было объявлено о создании 5-го Управления. Бобков был назначен заместителем начальника, через год с небольшим — начальником. А в феврале 1982 года подняли статус 5-го Управления до такого уровня, что им должен руководить зампред КГБ. Бобков стал одновременно зампредом КГБ и начальником 5-го Управления» [17].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: