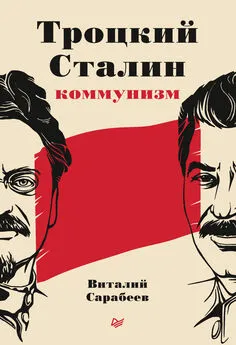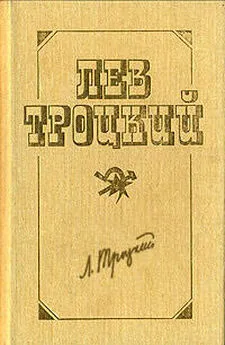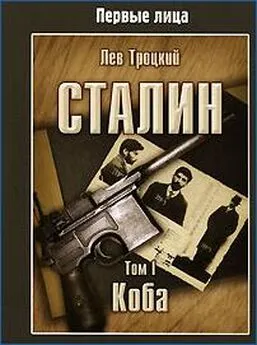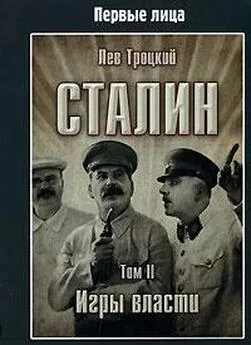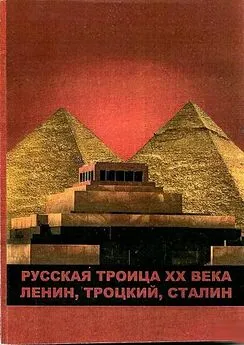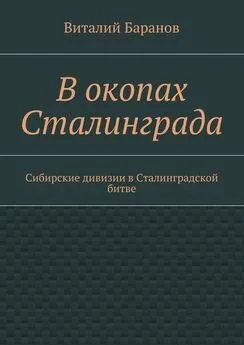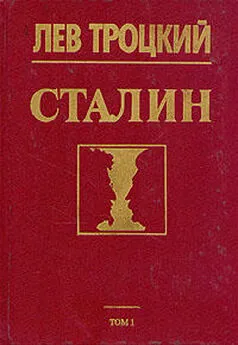Виталий Сарабеев - Троцкий, Сталин, коммунизм
- Название:Троцкий, Сталин, коммунизм
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- ISBN:978-5-00116-604-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Сарабеев - Троцкий, Сталин, коммунизм краткое содержание
Книга «Троцкий, Сталин, коммунизм» посвящена зарождению, углублению, основным этапам и кровавой развязке противостояния двух большевистских лидеров, формам и особенностям этой борьбы, ее отдельным острым эпизодам.
Автор книги Виталий Сарабеев – главный археограф научно-исследовательского отдела Государственного архива Пермского края, основатель и редактор марксистского интернет-журнала «Lenin Crew». В своем исследовании он отдает дань уважения политическому таланту Сталина и Троцкого, но в то же время показывает и ошибки, которые они совершали. Автор, исходя из марксистской методологии, формулирует объективную точку зрения на деятельность Иосифа Сталина и Льва Троцкого в коммунистическом движении, свободную от пропаганды прошлых эпох.
Троцкий, Сталин, коммунизм - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однако вскоре позиция руководителей СССР переменилась: слишком многое стали себе позволять югославы, слишком откровенными стали их претензии на независимую политику. В частности, под предлогом того, что в граничившей с Югославией и Албанией Греции шла война, Тито предложил Ходже для лучшей защиты Албании ввести на ее территорию югославскую дивизию. Причем «столь серьезный в условиях “холодной войны” и греческого конфликта шаг Тито не согласовал с Москвой. Советское правительство узнало об этом совершенно случайно из жалобы Э. Ходжи советскому дипломатическому представителю. Это вызвало сильное возмущение Сталина, который располагал информацией об американской угрозе превращения греческой войны в общебалканский конфликт» [582].
Претензии титовцев на руководство коммунистами других стран касались не только «народных демократий». Как пишет А. Волынец, «слишком поверившие в свои силы лидеры КПЮ активно поучали всех соседей, в частности, австрийским коммунистам предлагали отделять “советскую” часть страны и побыстрее делать там социализм, одновременно намекая, что границу с Австрией неплохо бы изменить в пользу Югославии. Такие моменты в поведении Тито порождали все большее раздражение Кремля» [583].
Ситуацию усугубляли и не слишком «деликатные» действия советской стороны. В частности, нормой была вербовка советскими спецслужбами агентов среди должностных лиц «народных демократий». Курьезный случай в связи с этим произошел в Венгрии в 1949 году:
«Основываясь на сообщении Белкина и Макарова из Будапешта, Абакумов 21 июля 1949 г. проинформировал Сталина (№ 5689/А) об обстоятельствах ареста венгерской безопасностью Палфи. При аресте была обнаружена шпионская амуниция, а именно средства тайной связи – радиопередатчик и шифры. Довольно быстро венгры установили, что Палфи был связан с советской военной разведкой через советского военного атташе в Будапеште полковника М.А. Малевского. Обо всем этом с “обидой” Ракоши рассказал Белкину и Макарову, которые, в свою очередь, о конфузе немедленно доложили Абакумову, а тот, естественно, Сталину.
В своих мемуарах Ракоши пишет, как он сначала не мог поверить в то, что Палфи советский агент: “Я даже рассердился за наивность на наши органы, которые полагали, что в то время, когда советские советники находились повсюду в нашей армии, Советский Союз мог использовать такие методы”. Но, уточнив информацию, Ракоши “не без досады узнал, что речь действительно идет о советской радиоаппаратуре”» [584].
Можно представить, какую реакцию подобного рода факты вызывали у югославских лидеров, которые сами пытались влиять на политику соседних стран. В итоге все вылилось во взаимный обмен обвинениями между ВКП(б) и КПЮ весной 1948 года. Конфликт стал достоянием гласности 29 июня 1948 года, когда конференция представителей Коминформа приняла резолюцию «О положении в Коммунистической партии Югославии» 29 июня 1948 года. Интересно, что КПЮ обвинялась в отходе от марксизма-ленинизма в том числе за то, что «в партии нет внутрипартийной демократии, нет выборности, нет критики и самокритики. ЦК КПЮ вопреки голословному заверению тт. Тито и Карделя в своем большинстве состоит не из выборных, а из кооптированных членов», а также за «торопливость» в деле проведения коллективизации [585].
В целом документ, конечно, верно характеризовал политику КПЮ, другое дело, что большинство обвинений легко можно было адресовать и всем остальным восточноевропейским компартиям, а то и самой ВКП(б). Последнее особенно касается отсутствия демократии: в Югославии просто была скопирована советская модель с «непогрешимым вождем» и «монолитным ЦК». Вообще условия, в которых в этой стране произошла социалистическая революция, очень напоминали условия России 1917 года – аграрная страна, в которой коммунистическая партия пользовалась огромной поддержкой масс при неизбежно сильном крестьянском влиянии, не нуждаясь, в отличие от некоторых других восточноевропейских стран, в союзниках. На все это наложился живой пример ВКП(б) позднесталинских времен, и в итоге получился своего рода «сталинизм против Сталина».
И надо сказать, что осуществлять «единство партии» путем репрессий в КПЮ тоже умели очень хорошо. Так как часть партийцев выступила в поддержку резолюции Коминформа, в партии были развязаны преследования противников политики Тито:
«…в ходе подготовки V съезда КПЮ, открывшегося 21 июля 1948 г., была проведена тщательная фильтрация делегатов съезда, куда фактически не были допущены представители сторонников Информбюро.
О том, какими методами это делалось, сообщал в Москву советский консул в Загребе. По его словам, в Загребском университете, как и в других парторганизациях республики, прошли аресты.
В соответствии со специальной директивой ЦК КПЮ были взяты на учет все сторонники резолюции Информбюро и колеблющиеся.
Консул информировал МИД СССР, что широкое распространение в партийных организациях получила практика индивидуального подписания резолюций о доверии ЦК КПЮ.
30 июня 1948 г. органы госбезопасности Югославии получили инструкцию о том, что все, кто выступает за Информбюро, должны быть арестованы… Перед V съездом ЦК КПЮ дал директиву исключать из партии тех из самых видных и авторитетных коммунистов, которые высказались за резолюцию Информбюро» [586].
Путь от сравнительно мягких репрессий за критику «генеральной линии» до 1937 года, который советская коммунистическая партия прошла за десятилетие, в КПЮ был пройден за считаные месяцы и даже недели. По иронии судьбы сторонники Сталина в Югославии оказались в положении сторонников Троцкого в СССР, зачастую с теми же последствиями для себя. В отношении, как их называли, «информбюровцев», как правило, не применялась смертная казнь, однако фактически были разрешены внесудебные убийства пытавшихся бежать из Югославии:
«В июле 1948 г. на заседании уполномоченных УДБ из областей, граничивших с Венгрией, Румынией и Болгарией, министр внутренних дел Сербии С. Пенезич дал следующую директиву: “Бдительность и контроль после выхода резолюции Информбюро надо усилить. Любое лицо, задержанное на границе, необходимо проверить и, если задержанный окажется членом партии, убивать его на месте, невзирая на личность – будь то член ЦК, министр или кто-либо другой, – но без шума. О выполнении докладывать. Нет надобности держать таких людей в тюрьме» [587].
«Сталинистская» оппозиция в КПЮ использовала примерно те же методы, что и левая оппозиция в СССР: подпольную пропаганду, создание нелегальных фракционных ячеек. При этом за «информбюровцами», в отличие от троцкистов, стояла поддержка социалистического лагеря, в том числе пропагандистский аппарат Коминтерна. Вскоре дело дошло и до попыток вооруженного сопротивления:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: