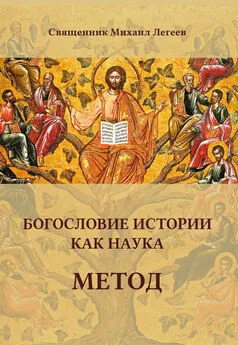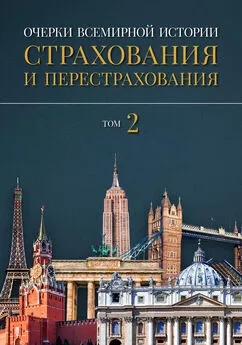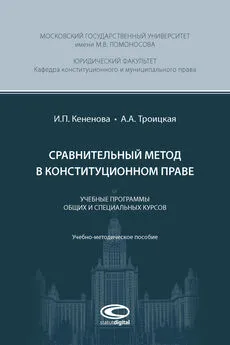Георгий Любарский - Морфология истории. Сравнительный метод и историческое развитие
- Название:Морфология истории. Сравнительный метод и историческое развитие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:КМК
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-87317-079-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Любарский - Морфология истории. Сравнительный метод и историческое развитие краткое содержание
Морфология истории. Сравнительный метод и историческое развитие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Развитие человеческой сознательности привело сейчас к первым попыткам сознательно управлять обществом. Неудивительно, что в связи с сознательным характером культуры и других сфер общественной жизни (государства, экономики) большую роль в современную эпоху стала играть ложь. Вспомним удивительную параллель: то, каким нам предстает мир древних германцев в исландских сагах. Характернейшей чертой средневековья оказывается правдивость культуры (я не буду останавливаться на тривиальных моментах, разъясняя, что были легенды и сказки, что люди и тогда обманывали друг друга - я надеюсь, что те, кто знаком с миром саг, сразу поймут, на что указывает данное сравнение). Отмеченная Стеблин-Каменским принципиальная правдивость саг находит соответствие и в русской культуре: до XVI в. все написанное почиталось истинным. И по сравнению с той, средневековой культурой современная поражает своей изумительной лживостью. Опять же, для этого сопоставления нет нужды подсчитывать число актов обмана на единицу времени - достаточно включить телевизор или открыть газету, чтобы ознакомиться с тем, что должно быть прежде всего правдивым (ведь это же та самая информация, которую подают к столу современного человека, чтобы он был в курсе происходящего).
Здесь опять работает та логика, с которой мы уже встречались. Что было бы, если б человек вдруг смог управлять своей физиологией, например, пищеварением? На первых порах не было бы ничего хорошего, но сильно прибавилось бы грязи. Когда начинается время самосознания и человек берет в свои руки аппарат управления своей жизнью (до этого он находился не во власти человека, а у иных сил), возникает масса неразберихи, бестолковщины, глупости и преступлений. Так начинает работать тот орган души, который еще не развит, он еще только тренируется, он делает ошибки. Отсюда то, что можно назвать инженерным подходом к обществу: люди сегодня почему-то убеждены, что общество - это большая машина, и если в общественной жизни что-то не ладится, надо засучить рукава, залезть внутрь этой машины и что-нибудь подкрутить. Это примитивное сравнение общества с простым механизмом отражает развитие осознания общества; ведь достаточно ясно, что если заболеет человек и к нему придет врач с подобной установкой, с подобными представлениями о лечении, то больному придется плохо.
Механистические тенденции сейчас пронизывают все, даже самые важные сферы общества, например, педагогику и сферу образования. Людей с самого рождения воспитывают как членов общества, что в переводе означает, что из них пытаются сделать детали общественного механизма. Такой подход с удивительной скоростью механизирует общество и убивает естественную культуру. Со смертью естественной культуры (которая еще, к счастью, не наступила), общество погибнет, поскольку оно живет только благодаря силам, которые неосознанно, но мощно оживляют общественную жизнь, выделяясь из сферы культуры. Идеал общества-машины обречен на гибель, однако современное общество развивается именно в этом направлении. Это развитие лежит на линии, проходящей через “Человека-машину” Ламеттри и “Глобальный человейник” Зиновьева. Именно такое предсмертное состояние общества характеризует современн ый (почитаемый как демократический) уклад жизни, и это надо признать, несмотря на ореол, которым окутано понятие демократии, несмотря на все замечательные достижения, которые связаны с этим понятием. В разговорах о демократии обычно подчеркивают только ее правовой аспект, равенство перед законом. Однако в реальности демократическое общество вовсе не исчерпывается правовым аспектом; механизация и материализация общественной жизни является неизбежным спутником той англосаксонской демократии, которая сейчас представлена в мире.
Государственно-правовая сфера также претерпела в эпоху демократии определенные изменения. Ее развитие в Европе прошло несколько этапов. В Средние века, при феодализме, власть устанавливалась отношениями, связанными с землей, властные отношения в принципе были не универсальными, были встроены в лестницу вассалитета. На следующей стадии, в сословно-представительной монархии, возникает зародыш национального государства, а сама власть приобретает универсальный характер, но только на данной территории. В обществе существуют сословия, а это значит, что граждане государства не равны между собой, подданные монарха отличаются друг от друга в зависимости от места в социальной пирамиде, пирамиде сословий. Следующей стадией была абсолютная монархия. На этой стадии с особой силой проявился универсализм власти, каждый индивид является подданным монарха на равных основаниях с остальными, все равны в качестве подданных. Абсолютная монархия сделала возможным развитие демократического общества, абстрактное равенство перед монархом было преобразовано в равенство перед еще более абстрактным принципом права - равенство всех перед законом; “подданство” сменилось “гражданством”. Государство признается теперь социальным целым (а не искусственным, фрагментарным образованием, каким оно было при феодализме), и это государство теоретически мыслится мононациональным. Форма монархии сменяется на представительное правление. Возникновение понятия “абстрактного закона”, перед которым все равны, приводит к представлению о правовом государстве (самые ранние зачатки этой мысли можно найти в английском обычном праве XVII в., затем развитие этой идеи продолжалось в Германии). Развитие правового государства шло через установление всеобщего голосования (один человек - один голос), через снижение избирательных ограничений (имущественного ценза и т.д.). Однако концепция правового государства делала упор лишь на защите прав гражданина. Следующая стадия развития - появление специализированных общественных органов, осуществляющих связь между властью и гражданами. В первую очередь это партии и средства массовой информации. Масс-медиа доводят мнение граждан до властей, с другой стороны они же управляют мнением граждан. Выделяются и другие органы, предназначенные управлять гражданами с помощью особых институтов из разных сфер общественного целого: экономические меры (вроде прожиточного минимума и проч.), акции, связанные со здравоохранением и образованием и т.д.
История рождения демократического общества обычно начинается с английского парламентаризма. Уже говорилось, что в каждой стране Европы имелось гомологичное парламенту образование: Генеральные штаты, рейхстаги, ландстаги, сеймы, Земские соборы… Одинаковые как по функции, выполняемой ими в государстве, так и по устройству, они имели принципиально разную судьбу. Во всей континентальной Европе эти образования вымерли, различно только время их угасания. В России это произошло в XVII в., во Франции - в XVIII. Новое их возвышение (например, германского рейхстага) происходило уже на совершенно иной основе, после большого перерыва и с явным следованием английскому образцу; тем самым рейхстаг ХХ века аналогичен рейхстагам Средних веков и начала Нового времени, но гомологичен английскому парламенту новейшей истории. В Англии парламент не исчез, напротив, он изменил государственное устройство и с XVII в. переродился сам, встав во главе новой структуры государственной власти. Именно пример английского парламента показывает образец наиболее плавной перестройки сословно-представительного собрания в государственный бюрократический аппарат нового типа. И несмотря на плавность такого перехода становится очевидным, что переход к новому типу государственного устройства (абсолютистского, бюрократического - или демократического, постиндустриального и т.д.) связан прежде всего с тем, что туманно называют “веянием времени”, “духом времени”, то есть следствием изменений, произошедшим в национальных характерах и отдельных человеческих душах. К новому государственному устройству перешли в конце концов не только те страны, в которых процесс был плавным (как в Англии), но и те, у которых наблюдался сбой в преемственности институтов власти (большинство континентальных государств, например, Франция), а также и те, которые перешли к этому государственному устройству, не изменяя в существенных чертах прежнего аппарата сословной монархии. Такой пример дает Россия: революция 1917 года в социальном смысле была логическим продолжением самых худших черт предыдущего типа правления; конец тысячелетия не принес в этом отношении ничего, принципиально изменяющего ситуацию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: