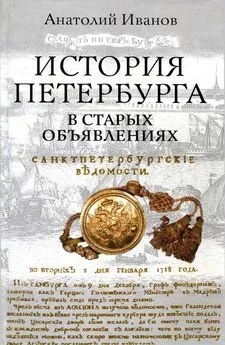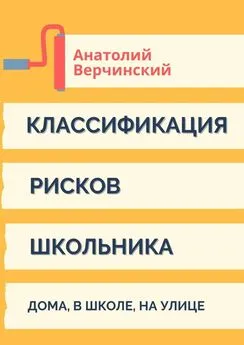Анатолий Иванов - История петербургских особняков. Дома и люди
- Название:История петербургских особняков. Дома и люди
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО
- Год:2018
- ISBN:978-5-227-08282-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Иванов - История петербургских особняков. Дома и люди краткое содержание
История петербургских особняков. Дома и люди - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Скупой на похвалы, А. П. Ермолов называет Ламберта в своих «Записках» одним из отличнейших и распорядительнейших генералов. Всегда вежливый и обходительный с подчиненными, он был любим ими за доброту и благородство.

К. О. Ламберт
Большой известностью в обществе пользовалась и его жена Ульяна Михайловна, урожденная Деева, дочь суворовского генерала. Имея весьма увесистую комплекцию и несгибаемый дух, унаследованный от предков, графиня Ламберт во время переправы через Березину 11 ноября 1812 года сумела остановить гусар своего мужа, бросившихся было бежать от французов, крикнув растерявшимся конникам: «Дети, неужели вы оставите вашего раненого генерала?» В результате супруг был спасен, а воины избежали вечного и несмываемого позора.
Однако Ульяна Михайловна порой тоже испытывала смешную робость, доходившую до чудачества. К примеру, летом 1831 года, проживая в Царском Селе, напротив дома, занимаемого А. С. Пушкиным, она всегда плотно задергивала занавески, стараясь не попадаться на глаза знаменитому соседу, из опасения, что тот на нее «критику сочинит». Поэт тоже не оставался в долгу и, по словам А. О. Смирновой, «прибирал всякую чепуху насчет своей соседки генеральши Ламберт», поэтому опасения последней до некоторой степени оправданы.
Впрочем, скоро они помирились: узнав о взятии Варшавы, столь нетерпеливо ожидавшемся всеми, Ульяна Михайловна поспешила известить об этом Пушкина. В благодарность Александр Сергеевич послал ей первый экземпляр своего стихотворения «Клеветникам России» и нанес визит с женою, после чего графиня перестала задергивать занавески на своих окнах.
К середине 1850-х годов особняк перешел к уже упомянутому Степану Васильевичу Сафонову, в прошлом чиновнику канцелярии графа М. С. Воронцова, автору этнографических работ о Крыме и, по странному стечению обстоятельств, также знакомому Пушкина, вместе с которым он был послан в 1824 году в служебную командировку по уездам. Дослужившись до высокого чина тайного советника и назначенный сенатором, Сафонов приобрел собственное жилище и придал ему тот облик, что донесла до нас старая открытка…

Конец легенды
(Дом № 6 по набережной Фонтанки)

История Петербурга не богата легендами, поэтому опровергать то немногое, что есть или было, – занятие неблагодарное. Немногие легенды связаны с именем Бирона – конюшни Бирона (Мойка, 12, во дворе), дворец Бирона (Тучков буян) и т. д. Очевидно, зловещая фигура временщика прочно засела в памяти народной.
Участок, о котором пойдет речь, тоже связывается с его именем. Будто бы неподалеку отсюда стояли некогда службы Бирона, и «люди суеверные видели здесь по ночам тени замученных злым герцогом людей; особенно дурной славой пользовалось место, которое занимает сад Училища правоведения». Так утверждает наш петербургский бытописатель М. И. Пыляев, в немалой степени сам творец легенд. И хотя никаких служб Бирона здесь никогда не бывало, это не делает историю участка менее интересной.
Когда-то на месте бывшего здания Училища правоведения стояла придворная коллегия, входившая в комплекс построек дворцового Запасного двора. В 1780 году начали строить новую, каменную набережную Фонтанки, для чего понадобилось снести старые строения. Через «Санкт-Петербургские ведомости» вызывались желающие «на берегу реки Фонтанки… на старом Запасном дворе, как каменное, так и деревянное строение… купить и сломать для себя и место очистить».
В 1788 году сенатор и камергер Алексей Андреевич Ржевский приступил к постройке каменного дома на отведенном ему управой благочиния месте, очищенном после сноса упомянутых построек.
Здание состояло из двух флигелей – трех- и двухэтажного (позднее он также надстроен до трех этажей), соединенных воротами. Закончили его не ранее 1790-го, но годом раньше уже появились первые жильцы, как видно из объявления в «Ведомостях»: «Продается крестьянская девка 17 лет; желающие оную купить о цене сведение получить могут у живущего подле Прачешного двора на Фонтанке в новостроящемся Его Превосходительства Алексея Андреевича Ржевского каменном доме Прапорщика Жукова».
Кто же такие хозяева дома – сенатор Ржевский и его супруга Глафира Ивановна, урожденная Алымова?

А. А. Ржевский
Те, кому приходилось бывать в Русском музее, конечно же помнят знаменитую серию портретов «смолянок» Д. Г. Левицкого. Среди них есть и портрет улыбающейся девушки в белом шелковом платье, играющей на арфе. Это юная Алымова. На портрете ей всего восемнадцать лет; она заканчивает институт. Что-то сулит ей жизнь? Известно, что в числе пяти лучших учениц Глафира Алымова получила золотую медаль первой величины, а кроме того, золотой шифр и что пользовалась особой любовью и покровительством Екатерины II, отличавшей ее незаурядные музыкальные дарования. Но достаточно ли этого для счастья?
Девушка была сиротой, и заботу о ней после выпуска из института взял на себя престарелый вельможа И. И. Бецкой, в чьем доме она и поселилась. Неожиданно старик влюбляется в свою приемную дочь. Самое странное в том, что юная Глафира в общем-то не видела здесь ничего противоестественного. В своих «Записках» она рассказывает: «Страсть его дошла до крайних пределов и не была ни для кого тайною, хотя он скрывал ее под видом отцовской нежности. Я и не подозревала этого. В 75 лет он краснел, признаваясь, что жить без меня не может… Будь он откровеннее, я бы охотно сделалась его женою».
В это время Алымовой делает предложение Алексей Андреевич Ржевский, похоронивший несколько лет тому назад свою жену. Он – известный в свое время поэт, сотрудничал в журналах М. М. Хераскова «Полезное увеселение» и «Свободные часы» и занимал в то же время видное место среди масонов. О его литературных опытах с похвалой отозвалась сама императрица, ей он поднес оду своего сочинения.
Но главное заключалось в другом: Ржевский был значительно моложе своего соперника, обладая притом прочным положением в обществе и недурным состоянием, что и склонило чашу весов в его пользу. Тут-то и начались неприятности.

Г. И. Алымова
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: