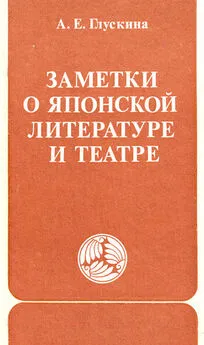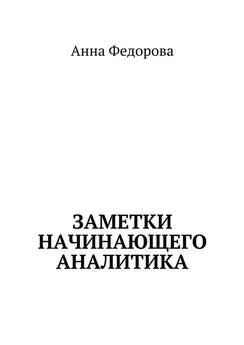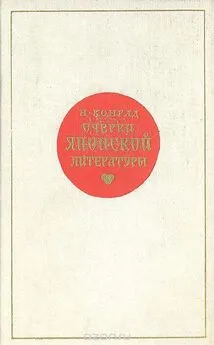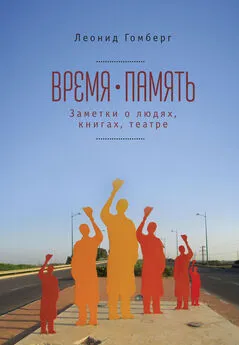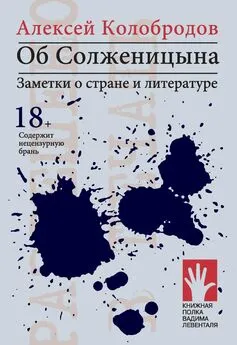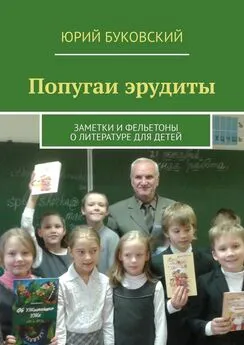Анна Глускина - Заметки о японской литературе и театре. (часть)
- Название:Заметки о японской литературе и театре. (часть)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1979
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анна Глускина - Заметки о японской литературе и театре. (часть) краткое содержание
Четыре статьи из книги А. Е. Глускиной "Заметки о японской литературе и театре." — М., 1979.
Заметки о японской литературе и театре. (часть) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
| Как яшмовая нить, | Тама-но о но |
| Жизнь длинная… | нагаки иноти-ва |
(XII — 3082)
В поэзии "Манъёсю" употребляется часто эпитет "уцусэми-но" — применительно к миру, человеческой жизни, человеку. Существует мнение, что значение "бренный" этот эпитет приобрел позднее.
Из материалов, приводимых филологом Кэйтю, выясняется, что "уцусэми" называли особую породу недолговечных цикад, которые, рождаясь весной, умирают летом, а рождаясь летом, умирают осенью. Вероятно, вначале данный образ использовался в качестве конкретного сравнения жизни человека и недолговечной цикады — для народной поэзии характерно обращение к природе и конкретность образов. Буддизм же в дальнейшем придал такому сопоставлению характер отвлеченного эпитета — "бренный, непрочный" и перенес это представление на все земное.
Не без влияния буддизма появились и постоянный эпитет человека "невечный" ("цунэнарану"), и выражение "коно ё", или "ёнонака" (синоним "коно ё" букв. "этот мир"), обычно применяющееся в значении "бренный, суетный, пустой мир".
Остановимся на четвертой категории песен. Хотя императорский дом покровительствовал буддизму, насчитывавшему к VIII в. много последователей, в песнях "Манъёсю" встречаются иронические и даже издевательские высказывания по поводу этого вероучения. Некоторые произведения отражают пренебрежительное отношение к буддийским монахам, святыням, а также у отдельным буддийским идеям и представлениям. Так, явная ирония звучит в песнях Отомо Табито, когда он упоминает о буддийском учении:
| О, пускай мне говорят | Атаи наки |
| О сокровищах святых, | такара то ю томо |
| Не имеющих цены. | хитоцуки-но |
| С чаркою одной, где запенилось вино, | нигорэру сакэ-ни |
| Не сравнится ни одно! | ани масамэ я мо |
(III — 345)
Слова "атаи наки такара" ("сокровища, не имующие цены"), взятые из буддийской сутры Хоккэкё, явно указывают на то, какие сокровища подразумевает поэт. Иронически воспринимает он и идею будущих миров, переселения душ, кармы и т. п.
| Лишь бы на земле | Има-но ё-ни си |
| Было счастье суждено, | танусику араба |
| А в других мирах — | кому ё-ни ва |
| Птицей или мошкой стать — | муси-ни тори-нимо |
| Право, все равно! | варэ-ва наринаму |
(III — 348)
В кн. XVI антологии встречаются также шуточные песни, косвенно свидетельствующие о непочтительном отношении к буддизму. Таковы песня придворного Икэда, высмеивающая Омива Окимори, и ответ Омива, издевающийся над Икэда.
| Как в буддийском храме, здесь | Тэра дэра-но |
| Женский черт голодный есть, | мэгаки мо: саку |
| Говорит он: Омива — | Омива-но |
| Черт мужской, такой, как я, | огаки табаритэ |
| Мужем сделаю его и рожу ему дитя. | соно ко уманаву |
(XVI — 3840) [14] 14. Голодный черт — изображение грешника, наказанного невозможностью есть. У него вид скелета, поэтому с ним сравнивают обычно очень тощего человека.
Ответная песня Омива:
| Коль тебе для статуй Будд | Хотокэ цукуру |
| Киновари мало тут | масохо тарадзу ва |
| …… | …… |
| У Икэда с носа ты | Икэда-но асо-га |
| Позаимствуй красноты! | хана-но э-о хорэ |
(XVI — 3841)
Еще в одной песне высмеивается священный танец стража буддийского храма:
| В Икэгами над прудом | Икэгами-но |
| Будто пляшет страж с копьем? | рикиси маи камо |
| Иль летает в вышине | сирасаги-но |
| Цапля белая кружа, | хоко куимотитэ |
| В клюве веточку держа? | тобиватару раму |
(XVI — 3831)
В произведениях памятника отразилось и пренебрежительное отношение к буддийским монахам. Характерна в этом смысле одна из анонимных песен:
| Вместо леса пышной бороды, | Хосира-га |
| У монахов лишь пеньки торчат. | хигэ-но соригуи |
| Можешь привязать к пенькам коня, | ума цунаги |
| Да не дергай сильно впопыхах, | итаку на хики со |
| Заревет от боли наш монах. | хоси накаракаму |
(XVI — 3846)
Все эти примеры свидетельствуют о том, что новое учение, его идеи вызывали известное противодействие, приявившееся и в поэзии "Манъёсю".
Число песен, сочиненных монахами, в данном памятнике очень незначительно (всего 21). Среди создателей их есть инокиня, выступающая в соавторстве с поэтом Отомо Якамоти, и обитатели буддийских монастырей, которым, видимо, не чужды были такого рода забавы, — Хакуцу (песни кн. III — 307 — 309), Цуган (Цукан; III — 327, 353), проповедник Эгё (XIV — 4204), Энитати (Энтати; VIII — 1536), монах из храма Гангодзи (VI — 1018), настоятель храма богини Каннон в Цукуси, друг Отомо Табито (III — 336, 351, 391, 393, IV — 572, 573, V — 821), и сам Сётоку-тайси (III — 415).
Песни эти, как правило, светского характера, некоторые были сочинены на поэтических турнирах (монахам, очевидно, не возбранялось участие в светских развлечениях) и содержат описание красот природы. И лишь немногие несут на себе в какой-то мере отпечаток умонастроений автора. Таковы песни монаха Хакуцу о пещере Михо, о жившем в ней легендарном отшельнике, в которых выражается скорбь по поводу того, что люди невечны:
| Как скалы, вечная | Токи-ва насу |
| Пещера, здесь и ныне | ивая-ва има мо |
| Осталась, как была в те старые года, | арикэрэдо |
| А люди, что в пещере этой жили, | сумикэру хито дзо |
| Увы, не возвратятся никогда. | цунэ накарикэру |
(III — 308)
Таковы песни монаха из храма Гангодзи о добродетелях, скрытых под символом "белая яшма" (сиратама) [15] 15. "Вот она — сиратама, неизвестна она людям, пусть не знают, не беда, лишь бы знал об этом я. А другие пусть не знают, пусть не знают, не беда" (форма шестистишия — сэдока).
; песня Сами Мансэя о бренности мира, песня Сётоку-тайси, посвященная погибшему в пути страннику, напоминающая произведения других, в частности анонимных поэтов (есть основания предполагать, что в данном случае мы имеем дело с записью народной песни).
Любопытна песня монаха Цуган, вернее, повод, по которому она сложена. В названии указано, что он сочинил ее в ответ на обращение девушек, пославших ему засохшего моллюска с просьбой воскресить его. В тот период буддизм был популярен своей магической практикой, к ней часто прибегали с надеждой излечиться от болезней и сохранить жизнь. Девицы решили подшутить над монахом, а он ответил им, что моллюска воскресить, увы, уже нельзя.
В названиях песен упоминается о буддийских ритуалах, совершаемых при дворе (поминальные службы), о хоровом пении перед буддийским алтарем, когда песня исполнялась с целью получить хороший урожай. Последнее свидетельствует о том, что буддизм до известной степени просвоил себе функции, раньше целиком принадлежавшие исконной национальной религии — синтоизму. В примечании к одной из песен кн. XX (4494) указывается, что знаменитый строго выполнявшийся синтоистский обряд — пир в честь приношения богам первого риса ( тоё-но акари ) — был перенесен с седьмого на шестой день месяца из-за буддийского ритуала, который должен был совершаться в седьмой день. Причем об этом говорится в последней книге "Манъёсю", где помещены песни наиболее позднего времени — второй половины VIII в.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: