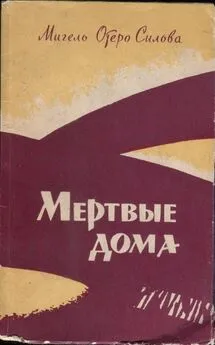Мигель Леон-Портилья - Философия нагуа
- Название:Философия нагуа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:101
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мигель Леон-Портилья - Философия нагуа краткое содержание
Философия нагуа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
К стр. 147,
Слово «метафизика» употребляется здесь в его первоначальном значении: то, что идет после физики. Оно возникло как обозначение тех сочинений Аристотеля, которые следовали после его книг по физике и рассматривали вопросы об умозрительно постигаемых началах бытия. Впервые этот термин был употреблен неоплатоником Симплицием в V веке, а в средние века получил широкое распространение, став синонимом философии, рассматриваемой как учение о началах всего сущего, считавшихся неизменными, духовными и недоступными чувственному опыту началами.
Подобное понимание философии сохранилось и в наши дни; его придерживается значительная часть современных буржуазных философов, в том числе и автор настоящей работы. Для этих философов метафизика как форма познания вечного, абсолютного, всеобщего противостоит другим наукам, которые в состоянии познать только преходящее, относительное, единичное. Антинаучность такой концепции, метафизически противопоставляющей вечное преходящему, абсолютное относительному, всеобщее единичному, подтверждается всем ходом развития науки. Еще Энгельс писал, что «Всякое истинное познание природы есть познание вечного, бесконечного, и потому оно по существу абсолютно»{[452]}.
После Гегеля метафизикой стали называть антидиалектический метод познания, рассматривающий мир в неподвижности. Этот метод явился непосредственным результатом того общего мировоззрения, центром которого, как писал Энгельс, «является представление об абсолютной неизменности природы»{[453]}.
Необходимо отметить, что признание самостоятельного существования метафизических проблем на самом деле есть уступка религии, так как это приводит в конечном счете к признанию существования бога. Вот почему Леон-Портилье не удалось отделить вопросы, имеющие действительно философское значение, от вопросов религии. Он не смог четко показать логическую связь между космологическими воззрениями нагуа и решением так называемых «метафизических проблем», интерес к которым вызывался не только религией, но и вполне земными реальными задачами. Кроме того, так как автор недостаточно четко отделил рационалистические знания от религиозных, он потерял ту нить, которая позволяла следовать по сложному лабиринту религиозных концепций, мифов и верований. Этой нитью было признание того факта, что мифы, хотя и в искаженной форме, отражают явления объективной реальности.
В. И. Ленин писал, что «с точки зрения диалектического материализма философский идеализм есть одностороннее, преувеличенное... развитие (раздувание, распухание) одной из черточек, сторон, граней познания в абсолют, оторванный от материи, от природы, обожествленный»{[454]}. Это еще раз подтверждает, что при анализе взаимоотношений философского и религиозного мировоззрений главное внимание надо обращать на раскрытие этих аспектов познания реальной действительности, одностороннее увеличение которых служит основой тех или иных философских концепций.
В данном случае необходимо было раскрыть гносеологические корни «метафизических.» концепций ацтеков. Такой анализ во многих случаях показал бы, что и здесь мы имеем дело не с одним идеализмом, что в этих концепциях ацтеков продолжает сохраняться значительная доля здорового реализма и материализма. Можно было бы привести много примеров, подтверждающих это, на них уже указывали исследователи (Чаверо, Селер, Касо и др.). Так, указывалось, что Ометеотл — это физический принцип, двойственная материальная основа Вселенной, которая с помощью четырех стихий создает многообразие материального мира. Интересно отметить, что и целый ряд религиозных понятий ацтеков также наполнен глубоким реалистическим содержанием. Например, тлалокан — место, куда попадали некоторые умершие, — выступает перед нами как земное творение, расположенное где-то на земле. Оно не столько «метафизическая» потусторонность, сколько «земной рай», как назвал его Саагун. Это земное содержание многих религиозных понятий отмечает и Леон-Портилья, когда пишет, что религиозная мысль нагуа, «будучи направлена к «видимому и ощущаемому», продолжала придерживаться мнения, что существует лишь единственный опыт земной жизни» (стр. 226).
Остается сожалеть, что в настоящем исследовании эти идеи не раскрыты в достаточной степени. Автор как бы не решается сдедать выводы, которые подтвердили бы материалистические элементы мировоззрения нагуа; еще более он остерегается представить их как определенную систему. Поэтому он не делает попытки обобщить многочисленные свидетельства, которые, однако, проглядывают почти в каждом из приведенных им источников.
К стр. 165.
Трудно согласиться с трактовкой характера поэтического творчества нагуа, которое Леон-Портилья рассматривает как особую форму «метафизического» познания. Приведенные для подтверждения этого положения тексты также не убеждают нас в верности такой концепции автора.
Большинство текстов говорит о том, что у нагуа, как и у всех других народов, находящихся на одинаковом уровне социального и культурного развития, поэмы выступают как способ передачи знания. У нагуа с их слаборазвитой и многим малодоступной системой пиктографического письма поэзия как форма передачи знаний и идей приобретала наряду с мифами особое значение. Половина приведенных в данном разделе текстов, без всякого сомнения, говорит именно об этой функции поэзии «цветка и песни». Автор же пытается доказать, что ацтеки давали себе ясный отчет в том, что существует особая форма художественной интуиции, благодаря которой художник якобы постигает тайну потусторонности. В подтверждение этого он приводит следующий текст:
Приходят они только из своего дома, из глубины неба, Лишь оттуда приходят различные цветы (стр. 163).
Между тем это лишь мнение жрецов, что поэзия якобы божественного происхождения, и оно недостаточно для столь широкого вывода.
По мнению автора, постановка вопроса о том, что единственно истинное на земле — это поэзия, представляет собой одно из наиболее значительных достижений мысли нагуа. С этим трудно согласиться прежде всего потому, что нам известны глубокие математические, астрономические, медицинские и другие знания нагуа об окружающей природе, знания, основанные на реалистическом подходе к изучению действительности и представляющие важный элемент их мировоззрения.
К стр. 196.
Вопросы, рассматриваемые в последующих двух главах (IV, V), без сомнения, представляют большой интерес. Богатый фактический материал, приведенный в них, раскрывает новые яркие страницы древней культуры народов нагуа.
Однако и здесь сказался отмеченный нами недостаток, состоящий в том, что вопросы рассматриваются как-то в отрыве от конкретных условий социального развития ацтекского общества. Автор обходит глубокие противоречия, которые уже существовали между различными слоями общества военной знатью, жречеством, торговцами, ремесленниками, крестьянами, рабами. Как и другие авторы, он преувеличивает «демократический» характер ацтекского общества.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
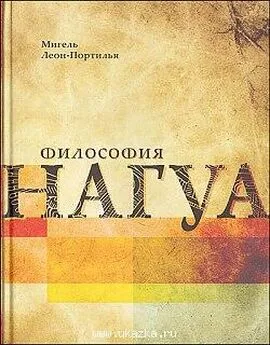
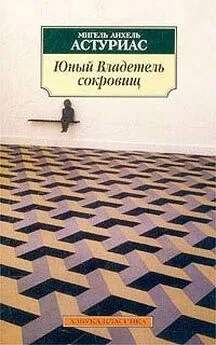
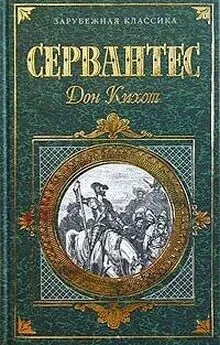
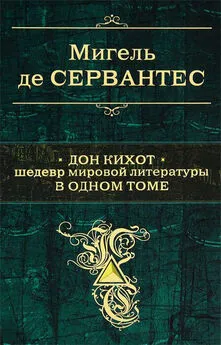
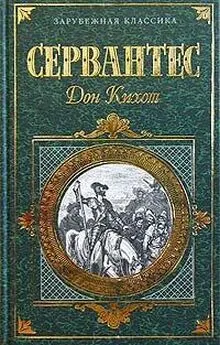
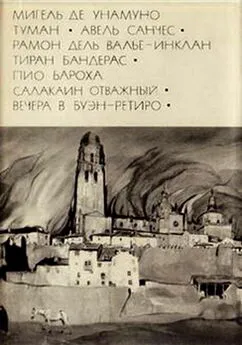


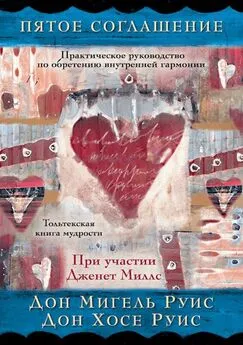
![Мигель Руис - Книга мудрости тольтеков. Реальная магия, или Кольцо силы нагваля [Практическое руководство по обретению внутреннего покоя]](/books/1099354/migel-ruis-kniga-mudrosti-toltekov-realnaya-mag.webp)