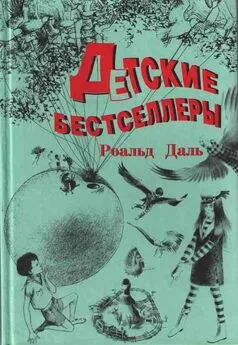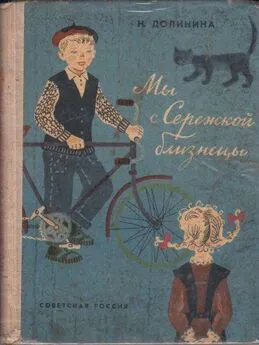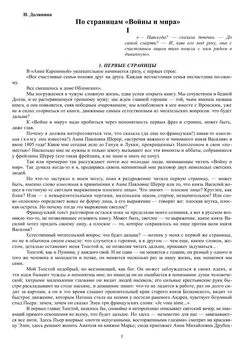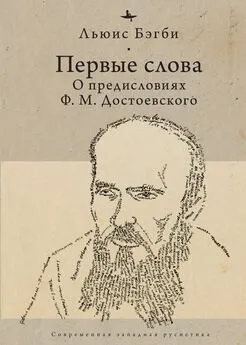Наталья Долинина - Предисловие к Достоевскому
- Название:Предисловие к Достоевскому
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:0101
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Долинина - Предисловие к Достоевскому краткое содержание
Предисловие к Достоевскому - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Рассказчик не впервые увидел здесь этих посетителей. Оказывается, старик приходил в кондитерскую ежедневно: он «никогда ничего не спрашивал», даже газет не читал, не произносил ни слова, просто сидел «в продолжение трех или четырех часов», на одном месте, «смотря перед собою во все глаза... тупым, безжизненным взглядом», а собака неподвижно лежала у его ног. «Казалось, эти два существа целый день лежат где-то мертвые и, как зайдет солнце, вдруг оживают единственно для того, чтобы дойти до кондитерской Миллера и тем исполнить какую-то таинственную, никому не известную обязанность».
Благопристойный мир кондитерской не может долго выносить присутствие неблагообразного старика — столкновение неизбежно, и оно происходит. Один из гостей Миллера, «купец из Риги», почувствовав на себе неподвижный взгляд старика, сначала обиделся, затем возмутился и, наконец, вышел из себя: «...он вспыхнул и... пылая собственным достоинством, весь красный от пунша и от амбиции, в свою очередь уставился своими маленькими, воспаленными глазками на досадного старика». Хозяин кондитерской почел своим долгом заступиться за посетителя и, думая, что старик глух, громко и тоже с чувством собственного достоинства, обратился к нему с требованием «прилежно не взирайт» на посетителя.
3. «Отчего иногда
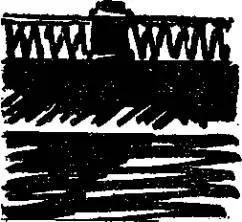
сердце перевертывается в груди...»
Здесь тон рассказчика резко меняется. Описывая старика и его собаку, он был наблюдателен и, пожалуй, раздражен. Говоря о мире кондитерской, он не скрывал своей неприязни к этим красным «от пунша и от амбиции», самодовольным, тупым мещанам. Теперь он жалеет старика — никакого раздражения больше нет, только жалость, которой не может не разделить читатель: «Старик машинально взглянул на Миллера, и вдруг в лице его, доселе неподвижном, обнаружились признаки какой-то тревожной мысли, какого-то беспокойного волнения. Он засуетился, нагнулся, кряхтя, к своей шляпе, торопливо схватил ее вместе с палкой, поднялся со стула и с какой-то жалкой улыбкой — униженной улыбкой бедняка , которого гонят с занятого им по ошибке места, — приготовился выйти из комнаты. В этой смиренной, покорной торопливости бедного, дряхлого старика было столько вызывающего на жалость, столько такого, отчего иногда сердце перевертывается в груди...»
За этими строками я всегда вижу Федора Михайловича Достоевского — автора «Бедных людей», умеющего перевернуть и сердце читателя.
Умер бедный студент Покровский. За гробом его идет старик отец. Вещи и книги умершего захватила хозяйка квартиры, отец «отнял у ней книг сколько мог, набил ими все свои карманы, наложил их в шляпу, куда мог, носился с ними... и даже не расстался... и тогда, когда надо было идти в церковь... Наконец гроб закрыли, заколотили, поставили на телегу и повезли... Извозчик поехал рысью. Старик бежал за ним и громко плакал; плач его дрожал и прерывался от бега. Бедный потерял свою шляпу и не остановился поднять ее. Голова его мокла от дождя; поднимался ветер; изморозь секла и колола лицо. Старик, кажется, не чувствовал непогоды... Полы его ветхого сюртука развевались по ветру, как крылья... Книги поминутно падали у него из карманов в грязь. Его останавливали, показывали ему на потерю; он поднимал и опять пускался вдогонку за гробом...»
Эта страница — из «Бедных людей», первой книги Достоевского. И в каждой его книге есть страницы, читать которые тяжело, мучительно. Эти горькие, пронзительные слова, действительно, перевертывают сердце; мучительно представлять себе картину, нарисованную Достоевским. Но, право же, человеку, никогда не мучившемуся над книгами Достоевского, непременно недостает чего-то очень важного, может быть, той жалости, что растет прямо в сердце.
Вот такая мучительная картина предстанет сейчас перед нами в кондитерской Миллера. Старика гонят с привычного места...
От него, пожалуй, ждут какой-нибудь обиды... Но рассказчику «было ясно, что старик не только не мог кого-нибудь обидеть, но сам каждую минуту понимал, что его могут отовсюду выгнать как нищего».
Посетители кондитерской были люди хотя и пошлые, но добрые. В том смысле добрые, что, не замечая чужого горя, пока оно не раскроется под самым их носом, они могли расчувствоваться, заметив его наконец. Миллер постарался утешить старика.
«Но бедняк и тут не понял; он засуетился еще больше прежнего, нагнулся поднять свой платок, старый, дырявый платок, выпавший из шляпы, и стал кликать свою собаку...
Азорка, Азорка! — прошамкал он дрожащим, старческим голосом. — Азорка!
Азорка не пошевельнулся.
Азорка! Азорка! — тоскливо повторял старик...»
Достоевский не боится слов, не скупится на самые мучительные для читающего слова: «бедняк... засуетился... старый, дырявый платок... прошамкал... дрожащим, старческим голосом... тоскливо повторял...»
Азорка был мертв. «Он умер неслышно, у ног своего господина... Старик... тихо склонился к бывшему слуге и другу и прижал свое бледное лицо к его мертвой морде. Прошла минута молчанья. Все мы были тронуты...»
Вспомните, в начале рассказчик повторял: «гадкую собаку», «в жизнь мою я не встречал такой противной собаки». Теперь он почувствовал, понял, чем был для одинокого старика Азорка.
Но ремесленники из кондитерской, хотя и были тронуты, остаются пошлыми людьми, и это не замедлило сказаться.
«— Можно шушель сделать, — заговорил сострадательный Миллер, желая хоть чем-нибудь утешить старика. (Шу- шель означало чучелу)...»
И все наперебой стали предлагать свои услуги: кто — сделать чучело, кто — заплатить за него. Как будто чучело могло заменить живую собаку, которая одна оставалась со своим господином, была верна ему! Хозяин кондитерской дошел до такого приступа доброты, что предложил старику рюмку хорошего коньяка. Старик расплескал коньяк и ничего не выпил. «Затем, улыбнувшись какой-то странной, совершенно не подходящей к делу улыбкой, ускоренным, неровным шагом вышел из кондитерской, оставив на месте Азорку».
Вот эта улыбка, которая иногда возникает на лице измученного, погибающего человека, когда он уже все потерял, ему уже нечего ждать, не на что надеяться, — эта улыбка осталась совершенно непонятной обществу. Но ведь и рассказчик — чужой в этом мире. Войдя в кондитерскую Миллера, он спрашивал себя: «Зачем я вошел сюда, когда мне тут решительно нечего делать, когда я болен?..» Но, тем не менее, он остается в кондитерской, тревожась за старика, и, когда тот выходит на улицу, рассказчик спешит вслед за ним. Он успел найти старика в темном закоулке между каким-то забором и домом, успел сказать ему несколько добрых слов и услышать от него:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: