Марианна Басина - Далече от брегов Невы [без иллюстраций]
- Название:Далече от брегов Невы [без иллюстраций]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Детская литература»
- Год:1985
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марианна Басина - Далече от брегов Невы [без иллюстраций] краткое содержание
Третья повесть из документального цикла М. Я. Басиной о Пушкине:
1. В садах Лицея (Город поэта)
2. На брегах Невы
3. Далече от брегов Невы
4. Там, где шумят михайловские рощи
Для среднего и старшего школьного возраста.
Рецензенты: доктор филологических наук, профессор В. А. Мануйлов, кандидат филологических наук В. Б. Сандомирская
Далече от брегов Невы [без иллюстраций] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Бывало нарисует Крупенскую, — рассказывал Горчаков, — похожа; расчертит ей вокруг лица волоса, — выйдет сам он; на ту же голову накинет карандашом чепчик, — опять Крупенская».
Пушкин прекрасно рисовал, и на его кишинёвских рукописях то там, то здесь появлялись портреты знакомых.
Число знакомых Пушкина перевалило за сотню. Но многим другим кишинёвским домам предпочитал он дом Егора Кирилловича Варфоломея.
Зима мне рыхлою стеною
К воротам заградила путь;
Пока тропинки пред собою
Не протопчу я как-нибудь.
Сижу я дома, как бездельник;
Но ты, душа души моей,
Узнай, что будет в понедельник,
Что скажет наш Варфоломей.
Такое поручение Пушкин давал Горчакову.
Дом богатого откупщика Варфоломея стоял в середине квартала, образуемого Губернской, Каушанской, Харлампиевской и Минковской улицами. Дом был не очень велик. Варфоломей возводил себе новый, а пока что, любя удовольствия, желая потешить единственную дочь Пульхерицу и приискать ей жениха, пристроил к старому огромную залу, велел расписать её и здесь давал балы за балами.
На первых порах, приходя к Варфоломею, да и в другие дома кишинёвской знати, Пушкин испытывал странное чувство. Ему казалось, что перед ним не реальная жизнь, а какой-то диковинный спектакль, где причудливо переплетались роскошь и нищета: боярские дома были полны оборванной полуголодной цыганской дворни. В отличие от молдаван, бессарабские цыгане были крепостными.
Как раз напротив дома Варфоломея находился дом богатого помещика Захара Ралли. Большой этот дом с двором и флигелями занимал целый квартал.
Ралли был вдов и жил со своими детьми — четырьмя сыновьями и тремя дочерьми, из которых старшая была уже замужем. Из семейных домов, по словам Липранди, Пушкин довольно часто посещал семейство Ралли.
Пушкин хорошо себя чувствовал в этой просвещённой и приветливой семье. Со старшей дочерью Ралли, Екатериной Захаровной, умной и начитанной, можно было побеседовать. С её сестрой — юной красавицей Мариолой — поболтать, пошутить, потанцевать. Мариола играла на фортепьяно. У Ралли устраивались музыкальные вечера. С одним из сыновей Ралли, Константином, Пушкин сошёлся особенно близко и, случалось, проводил с ним целые дни.
Однажды Константин Ралли, собираясь в отцовское имение Долна, в сорока верстах от Кишинёва, пригласил с собою Пушкина. Между этим имением и другим — Юрчены — в лесу находилась цыганская деревня. Цыгане её и жили оседло, и время от времени кочевали, не уходя далеко. Принадлежали они Захару Ралли. «В Молдавии, — писал Пушкин, — цыгане составляют большую часть народонаселения; но всего замечательнее то, что в Бессарабии и Молдавии крепостное состояние есть только между сих смиренных приверженцев первобытной свободы. Это не мешает им однако же вести дикую кочевую жизнь… Они отличаются перед прочими большей нравственной чистотой. Они не промышляют ни кражей, ни обманом. Впрочем, они так же дики, так же бедны, так же любят музыку и занимаются теми же грубыми ремеслами».
Главным в цыганском таборе, принадлежавшем Ралли, был мудрый старый цыган — булибаши, староста. Его красавица дочь одевалась по-мужски, курила трубку, но носила ожерелье из потемневших старинных золотых монет. По словам сестры Константина Ралли, красавица цыганка звалась Земфирой.
Цыгане так понравились Пушкину, что он упросил своего приятеля задержаться и покочевать вместе с ними.
Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют,
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.
Как вольность, весел их ночлег
И мирный сон под небесами;
Между колёсами телег,
Полузавешанных коврами,
Горит огонь; семья кругом
Готовит ужин; в чистом поле
Пасутся кони; за шатром
Ручной медведь лежит на воле;
Всё живо посреди степей:
Заботы мирные семей,
Готовых с утром в путь недальний,
И песни жён, и крик детей,
И звон походной наковальни.
Всё это Пушкин сам видел и слышал, живя среди цыган, Он проникся к ним ещё большей симпатией и кочевал с ними почти целый месяц. Это время ему запомнилось.
В стране, где долго, долго брани
Ужасный гул не умолкал,
Где повелительные грани
Стамбулу русский указал,
Где старый наш орёл двуглавый
Ещё шумит минувшей славой,
Встречал я посреди степей
Над рубежами древних станов
Телеги мирные цыганов,
Смиренной вольности детей.
За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями.
В походах медленных любил
Их песен радостные гулы —
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.
И может быть, тогда, кочуя с цыганами, Пушкин задумал написать свою поэму «Цыганы»…
Весной и летом 1821 года, вскоре после начала этерии, у Пушкина прибавилось множество знакомых. Кишинёв наполнился «буженарами» — греками и молдаванами — беженцами из Турции и из придунайских княжеств. «Народ кишел уже в нём, — рассказывал о Кишинёве Вельтман. — Вместо двенадцати тысяч жителей тут было уже до пятидесяти тысяч на пространстве четырёх квадратных вёрст. Он походил уже более на стечение народа на местный праздник, где приезжие поселяются кое-как, целые семьи живут в одной комнате… Кишинёв был в это время бассейном князей и вельможных бояр из Константинополя и двух княжеств; в каждом дому, имеющем две-три комнаты, жили переселенцы из великолепных палат Ясс или Букареста… Прежде было приятно жить в Кишинёве, но прежде были будни перед настоящим временем. Вдруг стало весело даже до утомления. Новые знакомства на каждом шагу. Окна даже дрянных магазинов обратились в рамы женских головок… Чалмы князей и кочулы бояр разъезжали в венских колясках из дома в дом».
Тут уж не было недостатка в свежих и ярких впечатлениях. Буженары, их судьбы, их рассказы — всё это пёстрым калейдоскопом завертелось перед Пушкиным.
Злой ветер бедствий вместе с другими буженарами занёс в Кишинёв и пожилую вдову — гречанку Полихрони с молодой дочерью Калипсо. Бросив всё, они бежали из Константинополя сперва в Одессу, а оттуда в Кишинёв и поселились возле дома Мило, что на Московской улице.
Ещё до знакомства с ними Пушкин слышал, что вдова Полихрони средства к жизни добывает волшебством — помогает несчастливо влюблённым добиться взаимности, привораживает. А её дочь Калипсо прекрасно поёт.
Молва о силе волшебства Полихрони носилась по всему городу. Желающих испытать эту силу оказалось предостаточно. Очевидцы рассказывали, что начиная свои действия, «волшебница» садится в старинное кресло, берёт в руки длинный белый прут, надевает на голову шапочку из чёрного бархата с белыми кабалистическими знаками и буквами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Марианна Басина - Далече от брегов Невы [без иллюстраций]](/books/1079034/marianna-basina-daleche-ot-bregov-nevy-bez-illyustr.webp)

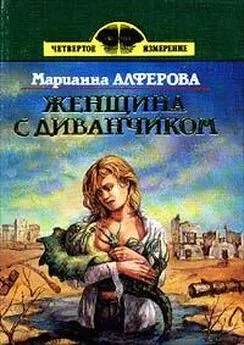
![Василий Ключевский - Русская история. 800 редчайших иллюстраций [без иллюстраций]](/books/262542/vasilij-klyuchevskij-russkaya-istoriya-800-redchajshih.webp)



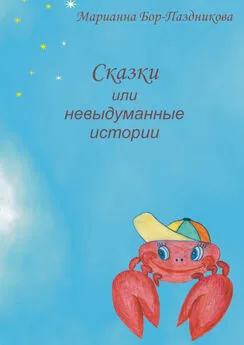
![Марианна Басина - На брегах Невы [без иллюстраций]](/books/1078390/marianna-basina-na-bregah-nevy-bez-illyustracij.webp)
![Марианна Басина - Там, где шумят михайловские рощи [без иллюстраций]](/books/1079031/marianna-basina-tam-gde-shumyat-mihajlovskie-rochi.webp)
![Марианна Басина - Город поэта [без иллюстраций]](/books/1079038/marianna-basina-gorod-poeta-bez-illyustracij.webp)