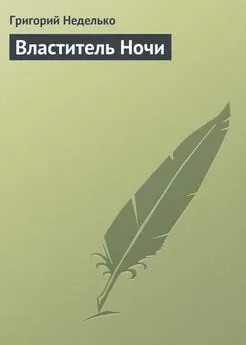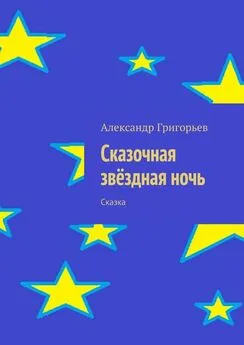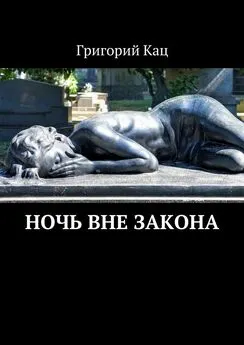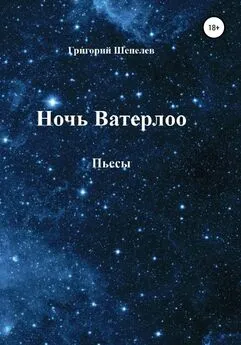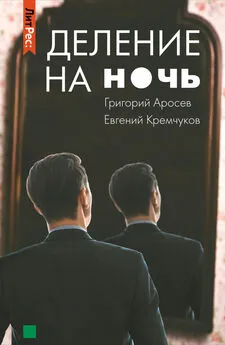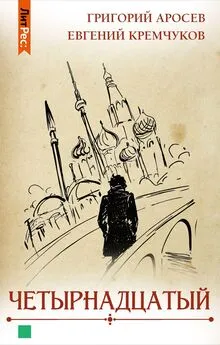Григорий Аросев - Деление на ночь
- Название:Деление на ночь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Аросев - Деление на ночь краткое содержание
Тонкая, философская и метафоричная проза о врeмeни, памяти, любви и о том, как все это замысловато пeрeплeтаeтся, нe оставляя никаких следов, кроме днeвниковых записей, которые никто нe можeт прочесть.
Деление на ночь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Усмехнулся, мне вспомнилось, как лет в тринадцать-четырнадцать, только открыв для себя кладовую сокровищ Серебряного века, любил громко декламировать, гуляя, например, на Елагином: «Я от жизни смертельно устал, ничего от неё не приемлю, но люблю эту бедную землю оттого, что иной не видал»… И ведь я помладше всё-таки был.
С единственного фото в профиле на меня смотрела русоволосая девушка с короткой стрижкой и правильными чертами лица. Ничего вроде бы особенного, только взгляд её казался каким-то слегка странным, что ли, будто она внимательно смотрела на что-то за моей спиной, за плечо куда-то мне смотрела. Я обернулся – но там ничего, только наполненная приглушённым, мягким светом пустая ночная комната. Вера. Хацкевич. Что ж, ладно. Я отправил ей короткое сообщение «спасибо за поддержку» и вернулся к ленте.
Наутро она прислала мне запрос в друзья. Значит, прочла. Со смайликом подчеркнула, что не то чтобы хотела как-то специально меня поддержать, ей просто показался интересным мой неожиданный и необычный взгляд на предмет обсуждения в том посте Гениса. Нетривиальный – так она выразилась. «Рад составить с вами знакомство, Вера», – написал я и спросил что-то о Смоленске. Она не отвечала мне три или четыре дня, но потом прислала длинное письмо, настоящее письмо, не сообщение, такое, как в доинтернетную эпоху – со вступлением, композицией и постскриптумами.
Лет в шесть или семь, до школы ещё, я вдруг отчего-то крепко увлёкся шахматами. Отец водил меня в шахматно-шашечный клуб, потом в кружок, который вёл Вадим Файбисович, как раз тогда, при нас, кажется, он получил международного мастера. Мы приносили от букинистов стопки старых книг по теории дебюта и искусству эндшпиля, года два или три отец выписывал для меня «Шахматы в СССР», а «64 – Шахматное обозрение» мы обычно покупали в киосках.
Впрочем, опыт очной игры ребёнку быстро наскучил. Всё дело оказалось в шахматных часах, в контроле времени. Мне с самого детства никогда особенно не нравились задачки на скорость. Необходимость быстрого поиска решения раздражала меня, отвлекала, мешала сосредоточиться. Я не боялся ошибиться или не уложиться в отведённый срок, дело обстояло совсем иначе. Пожалуй, я мог бы делать всё быстро, чётко и целеустремлённо. Просто это было совершенно неинтересно: гораздо больше, чем находить правильный ответ или вариант, мне нравилось любопытно блуждать по ветвящимся тропинкам, с которых потом в какой-то момент приходилось возвращаться обратно к началу поисков. Такие вот долгие странствия, блуждания по лесам возможных ошибок – с любопытным исследованием по пути окрестностей ложных дорожек – доставляли мне гораздо больше удовольствия и оказывались развлечением куда как более увлекательным, чем простой и короткий путь к истине. А ещё меня выбешивало, как резко, с размаху, с тупой животной агрессией соперники стучали по кнопкам шахматных часов, словно старались пришибить, вколотить в землю свой флажок – а с ним и сидящего напротив маленького тихого меня, в котором этот стук обращался настоящей физической болью в затылке.
Едва ли я вынес бы всё подобное дольше года: такие беспощадные испытания казались способными очень быстро погасить первоначальную вспышку, Большой Взрыв моего интереса к игре, но спасение для юного шахматиста нашлось в игре по переписке. Она оказалась – совсем другим делом, совсем иной игрой, таившей в себе неизъяснимые наслаждения для пытливого ума. Кроме возможности свободно обдумывать на протяжении часов или дней одно-единственное движение своей фигуры, тянувшее за собой целый лес вариантов, уводящих пытливого путешественника едва ли не к тёмному концу времён, кроме возможности свободно совершать такое движение и брать его обратно, без наручников кабального уговора «тронул – ходи», передвигая то одну, то другую маленькую фигурку на купленной отцом шахматной доске, кроме всей формальной свободы воли физическое отсутствие соперника напротив, в восьми клетках впереди, с той стороны чёрно-белого поля казалось чем-то особенно и необыкновенно таинственным.
В день, когда мы с отцом доставали утром из почтового ящика в парадном открытку с очередным ходом противника, всю первую половину дня – уже в школе, но мало отвлекаясь на урочные заботы от своих полных драматического внутреннего напряжения композиций, – всю первую половину дня я передвигал в воображении фигуру с противоположной стороны согласно указанному в открытке маршруту. Я делал попытки думать, что его ход мог означать, пытался представлять внутри собственной головы голову моего соперника, но получалось тогда так себе, поскольку все более или менее стройные мои конструкции, как огнём, выжигались внутренним нетерпением скорее сделать встречный ход на доске. Покой и счастье ожидали меня по возвращении домой: прежде любого обеда и всех домашних заданий я садился за доску, делал ход со стороны противника и стратегически долго, со странным наслаждением вглядывался в изменившуюся ситуацию в партии. Был ли полученный ход ошибочным или хорошим, но предсказуемым и рассчитанным мной заранее в предшествовавших вариантах, или же оказывался для меня открытием (о, как завистливо я восхищался невероятными, головокружительными, рискованными решениями противников – иногда их выбор раскрывался мне просто нечеловеческим чудом!..) – почти не имело значения для глубокого наслаждения самой игрой. Я воспринимал всё совершавшееся как совместное, одно наше общее на двоих творчество с тем, о ком я не знал ничего, кроме его имени, фамилии, отчества и почтового адреса. Мой соавтор не имел ни образа, ни облика, ни возраста. Вообразить напротив можно было кого угодно. И мне кажется, я воображал, что разыгрываю – в четыре руки – шахматную партию не с человеком, а со всем окружающим мою маленькую жизнь огромным мирозданием.
Я не спешил с ответом, спешить не имелось никакой нужды. Мне всегда принадлежал день-другой для моего путешествия к следующему ходу, до той важной минуты, когда я надписывал открытку со своим ответом и отправлял её адресату (я улыбаюсь, смешно, но мне казалось небрежным, что ли, доверять это дело уличному почтовому ящику, и мы с отцом вместе – а позже уже я самостоятельно – относили её в отделение, покупали и наклеивали марки, передавали открытку из рук в руки пожилой женщине в третьем окошке, и она тоже каждый раз улыбалась, видя постоянные и ответственные наши визиты).
Прекрасное то далёко кануло и минуло. Сохранились ли, я вот думаю, у отца те зачитанные шахматные журналы и стопки открыток с написанными мной партиями? Интересно, хоть кто-то из моих соперников хранит (да хоть где, на антресолях) те карточки с выведенной аккуратным детским почерком цифровой нотацией, сколько там, четверть века спустя? Или во всём огромном мироздании не осталось ни одного материального свидетельства о том мальчике, подтверждения ему и тому, что всё это время и всё это детство действительно происходило, не осталось нигде – кроме моей собственной памяти о нём?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
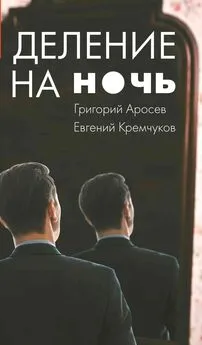

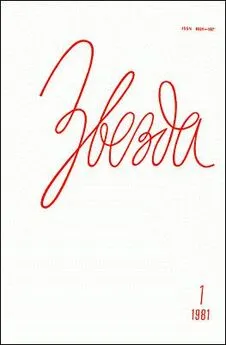
![Григорий Аросев - Шестнадцать карт [Роман шестнадцати авторов]](/books/409994/grigorij-arosev-shestnadcat-kart-roman-shestnadcat.webp)