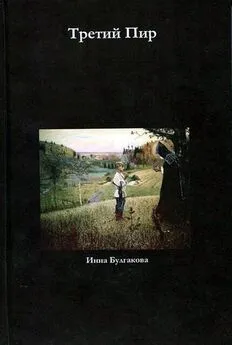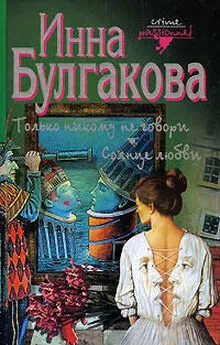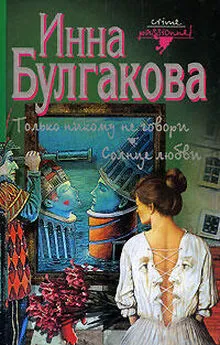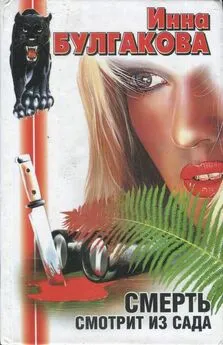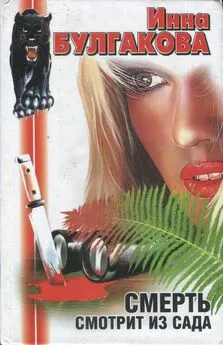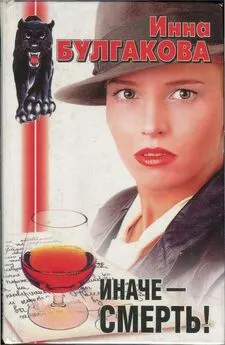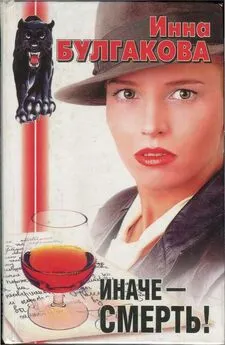Инна Булгакова - Третий пир
- Название:Третий пир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Lulu
- Год:2010
- ISBN:978-1-4457-1821-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Инна Булгакова - Третий пир краткое содержание
Шли годы…
Третий пир - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мама просияла от милостивой неожиданности, но тут же спросила:
— Что-то случилось?
— Нет. Просто соскучился, — ответил он машинально и понял, что говорит правду: соскучился.
— Паша! Митя приехал!
— Слышу!
Мама — с вечной папироской в пальцах и вечной бессонницей — сама нервность и страстность (сын в нее — последний наследник трофимовского рода из деревни Колесниково; и Трофимовы и Плаховы на нем обрывались), мама, прищурясь от дыма, наблюдала за встречей обожаемых близких. Пахло старостью и лекарствами.
В конце обеда (был коньяк — «со свиданьицем» — ирония отца над неким условным задушевным отцом) Митя спросил:
— Пап, ты читал «Обожествление пролетариата»?
Светло-серые глаза тотчас застлал непроницаемый стеклянный блеск.
— Не люблю фантастику.
— Но ты читал?
— Да.
— О чем вы?
— Твой сын интересуется брошюркой Дмитрия Павловича, еще дореволюционной. Читал в пятьдесят седьмом, хотел докопаться, почему его нельзя реабилитировать.
— Докопался?
— Да уж.
— Как ты думаешь, он внедрился в партию, чтобы разложить ее изнутри?
— Господи, как интересно! — воскликнула мама.
— Чушь и вздор! — отрезал отец. — Ты буквально повторил вывод следователя — внедриться, разложить, — что и легло в основу обвинения. Я знал его двадцать лет: никогда ничего подобного, ни намека. Он был, как миллионы, захвачен (если хочешь, «заворожен» — словцо из твоего словаря) идеей сверхчеловеческой.
— Сверхчеловеческой, — повторил Митя с любопытством (словцо не из отцовского словаря). — То есть переделка человеческого материала в планетарных масштабах путем безграничного насилия.
Павел Дмитриевич поморщился.
— Ты не можешь чувствовать ту эпоху: вкус, цвет и запах.
— Крови, — уточнил Митя. — Чувствую. Как будто вспоминаю. Благодаря вам обоим — тебе и деду. В крови передалось.
Павел Дмитриевич выпил рюмку коньяка и зашагал по комнате, мама сказала предостерегающе:
— Твои родные, Митя, запомни, не были палачами.
— Анна, не оправдывайся. Нам, конечно, трудно тягаться с гением, которого вырастили на свою голову и который теперь, спустя десятилетия, все за всех знает.
— Не знаю я ничего. Я и приехал узнать.
— Ты прочитал Дмитрия Павловича?
— Сегодня ночью.
— Мог бы спохватиться и пораньше, чтоб четко сформулировать обвинение.
— Не мог.
— Почему?
— Чтоб не формулировать обвинение.
— В чем ты его обвиняешь?
— Не обвиняю, а хочу понять.
— Нет, обвиняешь!
— Зачем он, предвидя все в трактате, выбрал победителей?
— Между трактатом и переворотом пролегла война, не забывай.
— Так он защищал Россию, а не мировую революцию.
— Друг мой, ты прямолинеен.
— Ты хочешь сказать, что участие в европейской бойне развязывает руки и выпускает зверя на волю?
Павел Дмитриевич опять поморщился.
— Зверя на волю… Тебя испортило чтение декадентских философов, которые, кстати, призывали анафему на Российскую империю, а потом испугались крови. Твой дед не испугался и пошел с народом. До конца, до расстрела.
— С каким народом?
— Ну, знаешь! А как же твоя навязчивая идея: коллективизация погубила крестьянство? Твой дед пострадал за кулаков и подкулачников — в тогдашней терминологии. Что тебе еще нужно от него?
— Паша, — вмешалась мама, — ему нужно разобраться. Не знаю зачем — но нужно. Меня вот тоже поразило насчет внедрения в партию. Дмитрий Павлович пишет об этом?
— Это его программа. Таким образом он надеялся смягчить удар и спасти остаток.
— Какой остаток?
— Нации.
— Безумие! — воскликнул отец.
— А новая вера — не безумие? Вскрываются могилы, крадутся мощи, а людей доводят до людоедства — не безумие? Папа, ты сам сказал: эта идея — сверхчеловеческая.
— Ну понятно: сатана пришел, — констатировал отец с сарказмом. — Эту тему вы с мамой обсудите, она всегда с удовольствием… потакает. А я пойду передохну.
Митя сидел, задумавшись (отец только замутил тайну, такую ясную с рассвета, с подтверждения Поль: «Твой дедушка не виноват»). Мама курила рассеянно, он пробормотал, взглянув на графинчик с коньяком:
— Напиться, что ли?
— Не надо, с ы ночка. Только хуже будет, — она говорила осторожно, подбирая слова: — Митя, мне не совсем понятна твоя одержимость.
— Да со мной все в порядке.
— Разумеется. Я никогда не вмешиваюсь (она всегда вмешивалась, слишком любила их), но зачем, зачем трогать Дмитрия Павловича? Он так страдал, как мы себе представить не можем.
Сразу представилась высокая кирпично-красная стена — ограда на окраине города, куда он ездил, пораженный любовью. Только ограда с башнями-вышками и была видна — и крыши каких-то строений за нею. Почему-то тайно от Поль он ходил на окраину, бродил (частные домишки, пятиэтажки) по обычной улице, выходящей в поле, будто бы слышал (вспоминал) грохот артиллерии, прерывистое дыхание подступающей войны, и в этом вое и скрежете тихий шелест, заупокойное исступленное лепетание: прощайте, братья и сестры, отомстите, не забудьте, будьте прокляты и да здравствует, Отче наш, иже еси на небесех — отдельный тоненький голосок звенел в лад с отмщением и проклятием… Вот-вот встанет солнце (или благословенная осенняя слякоть струится с небес), их выводят, все спешно и грубо, некогда, некогда, фашисты на подходе, а тут возись с собственными выродками, философ, конечно, спокоен (гордость и духовный аристократизм просвечивают в трактате… так то ж духовный, а в телесном предсмертии, да еще насильственном, сама кровь кричит), он все знал заранее и написал (предупредил) про «остаток». А если он шел в спокойном, неосознанном безумии, если за семь отпущенных лет было подарено забвение? Уже не узнать. А голоса звенели мстительно и смиренно — словно души умерших, не находя покоя, возвращаются, возвращаются на место преступления. Вся страна — место преступления, а ему говорят: не трогай их, займись делом.
— Да как же не трогать, мама? Забыть?
— Как можно? Но помнить — светло, слезно.
— Не выходит. Мы продолжаем и не очистились.
— И в кого ты такой уродился? — спросила мама с вечным недоумением перед загадкой онтологической.
Они сидели и молчали, а за стенкой в своей клетушке (звукопроницаемый уголок из двух комнат из последнего кошмара) тяжело ходил отец. Вот уже пять лет, как они добровольно сосланы в Беляево, чтобы не мешать писателю творить — так выразилась мама: «Мы не должны мешать тебе творить». Как будто кто-то мог помешать ему. Никогда! Сколько помнил себя — чуть не с года, — он не переставал заниматься этим странным потаенным занятием. Образы и звуки наплывали в темном хаосе, он собирал их, рассыпал и вновь собирал в собственный беспредельный космос, который начинал звучать и светиться. Откуда берутся эти знаки (эти ощущения он стал называть «знаками», когда научился читать), Митя не понимал, не понимал и посейчас. Дневные события, лица и разговоры если и служили подручным материалом для ночных историй — то в очень уж произвольных преломлениях, в вымыслах, вымыслах от начала до конца. Митюшу не надо было загонять в кровать, он шел сам и охотно, сжимаясь под одеялом в комочек, прижимая сверху к уху думочку, — и сочинял. В согласии с инстинктом сублимации (Фрейд) он почти безболезненно прошел «опасный возраст», растрачивая энергию в сочинениях, в которых, однако, появился и страстный момент. Впрочем, все детство и отрочество (да и сейчас порою) он подозревал, что так живут все: крутятся— вертятся, зарабатывают, едят и пьют, чтоб залечь наконец и уйти в иной мир: кто во сне, а кто и въяве. Поэтому ему и на ум не приходило рассказывать о мирах иных, ведь никто не рассказывает, это у каждого своя тайна.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: