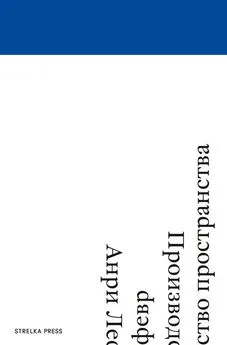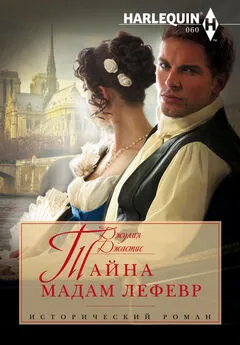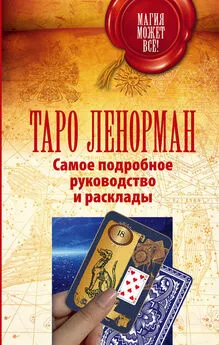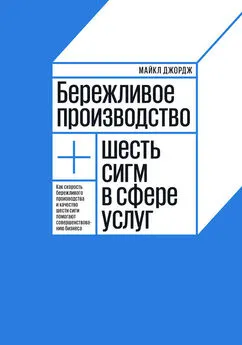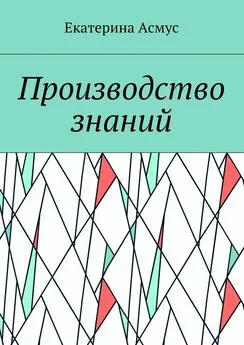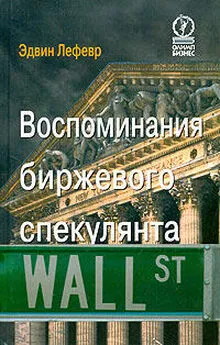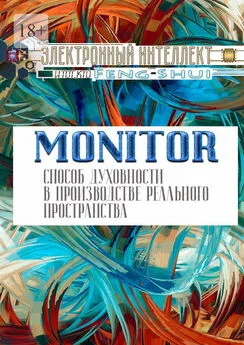Анри Лефевр - Производство пространства
- Название:Производство пространства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Стрелка пресс»f3fd0157-a4ca-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2015
- ISBN:978-5-906264-48-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анри Лефевр - Производство пространства краткое содержание
Пространство Лефевра, где ощущения, идеи, практики и физический мир соединяются в динамическом процессе постоянного возникновения и воспроизводства отношений между людьми, сообществами и институтами. Классическая работа французского философа Анри Лефевра «Производство пространства» одна из самых амбициозных попыток преодолеть извечный спор между теми, кто считает пространство абсолютной данностью физического мира, и теми, кто полагает, что оно существует лишь в сознании человека.
Производство пространства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Подобные виды деятельности и пространственно-временные детерминанты будут соответствовать антропологическому уровню социальной реальности. Мы уже дали определение этому уровню: разметка, ориентация. Эта деятельность доминирует в архаических, земледельческо-пастушеских обществах, а затем идет на спад, становится вторичной. «Человек» всегда размечает свое пространство, расставляет вехи, метки, оставляет символические и в то же время практические следы; «он» постоянно обозначает в пространстве перемены направления, повороты, либо применительно к собственному телу, рассматривая его как центр, либо применительно к другим телам (ориентация по звездам, когда восприятие угловых координат уточняется благодаря углу освещения).
Не стоит полагать, будто «первобытный человек» (скажем, пастух-кочевник) представляет себе линии (прямые и кривые), углы (тупые и острые) и систему мер (даже виртуально). Метки остаются качественными, как для животных. Направления видятся благоприятными или неблагоприятными. Метки – это эмоционально окрашенные предметы, которые позже будут называть «символическими». Неровности местности связываются либо с каким-либо воспоминанием, либо с возможным действием. Сети троп и дорог продолжают пространство тела и образуют такое же конкретное пространство. Пространственно-временные направления в представлении пастуха населены реальными и вымышленными, опасными и благосклонными «существами». Подобное определенное, символико-практическое пространство содержит относящиеся к нему мифы и рассказы. Сети и границы образуют конкретное пространство, близкое не столько к пространству геометрическому, сколько к паутине. Как мы знаем, счет – это сложная реконструкция того, что «природа» производит в живом теле или в его продолжении. Знаем мы и то, что символика и практика неразделимы.
Наиболее важное значение имеют, безусловно, отношения между границами , а также между границами и поименованными местами (для пастуха это место – зачастую огороженное, – куда он загоняет стадо; источник; граница пастбищ, находящихся в его распоряжении; запретная для него территория соседей). Таким образом, всякое размеченное, ориентированное социальное пространство предполагает отношения, которые накладываются на сети поименованных локусов и включают в себя:
a) пространство, доступное для нормального использования (маршруты всадников или стад, дороги, ведущие к полям, и т. д.), а также правила и практические модальности этого использования, предписания;
b) границы, запреты, пространства недоступные, относительно (соседи и друзья) или абсолютно (соседи и враги);
c) жилища, либо постоянные, либо временные;
d) стыки: нередко это переходы и места встреч, отношений и обменов; зачастую на них наложены запреты, которые в определенный момент снимаются с помощью ритуалов. В число подобных ритуалов входит объявление войны и заключение мира. Очевидно, что границы и стыки (то есть точки разлома) в разных случаях выглядят по-разному: более или менее оседлые крестьяне, народы, живущие грабежами и войной, кочевники или пастухи, регулярно перегоняющие стада, и т. д.
Социальное пространство, как и пространство природы, трехмерно: в него входят горы, возвышенности, небесные тела, гроты и пещеры; водные поверхности, плоскости и равнины разделяют и соединяют высоты и глубины. Из этого складывается репрезентация Космоса . Точно так же пещеры, гроты, потайные места и подземелья превращаются в репрезентации и мифы о матери-земле и мире. Оппозиции запад – восток, север – юг, верх – низ, вперед – назад в восприятии пастуха не имеют ничего общего с абстрактными репрезентациями. Для него это одновременно отношения и качества. Размеченное пространство исчисляется временем, измеряется в весьма расплывчатых единицах (шагах, усталости) и в частях тела (локоть, дюйм – палец, фут – стопа, ладонь и т. п.). Благодаря смещению центра тело того, кто мыслит и действует, подменяется социальным объектом – хижиной вождя, столбом, позднее храмом или церковью. «Первобытный человек» определяет пространство и говорит о нем как член коллектива, занимающий четко установленное место, тесно связанное с временем. Он не видит себя в пространстве как одну из многих точек в абстрактной среде. Подобное восприятие появляется гораздо позже, вместе с абстрактным пространством «планов» и карт.
III. 8
Тело служит для пространства отправной и конечной точкой. С ним, с нашим телом, мы уже неоднократно сталкивались выше. Но с каким телом?
Все тела похожи, но различий в них больше, чем сходства. Что общего между телом крестьянина, накрепко связанного с рабочим быком и соединенного плугом с землей, и телом блестящего всадника на боевом или парадном коне? Их тела различаются не меньше, чем тела (кастрированного) быка и коня! Животное в обоих случаях служит посредником (средством, орудием, промежуточным звеном) между человеком и пространством. Различие двух этих посредников сопровождается и аналогичным различием пространств. Иначе говоря, поле пшеницы и поле боя – разные миры.
Какое тело мы возьмем, привлечем, обнаружим в качестве точки отсчета? Тело по Платону или тело по Фоме Аквинскому, тело – носитель интеллекта или тело – носитель образа жизни; тело во славе или тело презренное? «Телесность», высшую из абстракций? Тело-объект (как у Декарта) или тело-субъект (как в феноменологии и экзистенциализме)? Тело дробное, представленное в изображениях, в словах, обсуждаемое в деталях? Или надо исходить из дискурса о теле? Как избежать мертвящей абстракции дискурса? Как ограничить ее и выйти за эти границы, если мы отталкиваемся от абстракции?
Быть может, следует исходить из «социального тела», истерзанного, разбитого изнурительной практикой – разделением труда – различными инстанциями? Но каким образом определить критическое пространство, если мы берем тело в уже «социальном» пространстве, уже искалеченным им? По какому праву и как определить это тело само по себе, вне идеологии?
Тело, возникающее выше по ходу нашего анализа, – это не философский субъект или объект, не внутренняя среда, противостоящая среде внешней, не нейтральное пространство и не механизм, части или фрагменты которого занимают это пространство, но пространственное тело. Пространственное тело, продукт и производящая сила некоего пространства, непосредственно определяется им, получая от пространства симметрию, взаимосвязь и обоюдность действий, оси и плоскости, центры и периферии, конкретные, то есть пространственно-временные оппозиции. Материальность такого тела обусловлена не соединением частиц в единый механизм и не природой, безразличной к пространству и растекающейся в нем, занимающей его. Исток его материальности лежит в самом пространстве, в распространяющейся и используемой энергии. Если все же считать тело «машиной», то это будет двойная машина: одна работает на грубой энергии (пище, метаболизме), другая – на тонкой энергии (информации органов чувств). Но остается ли «двойная машина» машиной? Диалектический подход позволяет конкретизировать весьма абстрактное картезианское понятие, относящееся к не менее абстрактной репрезентации пространства, – понятие машины. Двойная машина предполагает взаимодействие в рамках своей дуальной структуры. Она включает в себя поразительные эффекты и исключает механистичность, однозначное, одностороннее определение. Передатчики и рецепторы тонкой энергии расположены в органах чувств, афферентных и эфферентных каналах (нервах), мозге. Материальные органы – это мускулы и, наконец, половые органы, полюс накапливаемой взрывной энергии. Устройство органического тела также непосредственно связано с устройством (организацией) пространства. Могут ли тенденции, отличающие это целое, – тенденция к поглощению, хранению, накоплению энергии и тенденция к ее внезапному выбросу, – сосуществовать, не вступая в конфликт? Так же обстоит дело и с тенденцией к освоению пространства и тенденцией к его захвату. Кульминацией конфликтов, неотделимых от пространственно-временной реальности тела (которая не является ни субстанцией, ни объектом, ни механизмом, ни потоком, ни замкнутой системой), будут конфликты между познанием и действием, между мозгом и полом, между желаниями и потребностями человеческого существа. Который из них более, а который менее важен – сугубо оценочный вопрос; он имеет смысл, только если мы выстраиваем иерархию. А иерархия не имеет смысла, вернее, теряет смысл . Она вводит нас в западный, иудеохристианский Логос. Но последующие разграничения связаны не только с языком, дробностью слов, изображений, локусов. Они проистекают также – и в первую очередь – из оппозиции, присущей живому организму как диалектическому целому. Полюс тонких энергий (мозг, нервы, чувства) не обязательно согласуется с полюсом грубых энергий (половыми органами), скорее наоборот. Любой живой организм обладает смыслом и существованием лишь постольку, поскольку составляет целое со своими продолжениями: с пространством, которое ему доступно и которое он производит (расхожий термин «среда» сводит деятельность к пассивной интеграции в материальную природу). Всякий живой организм отражается, преломляется в тех изменениях, какие он производит в своей «окружающей среде» – в своем пространстве.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: