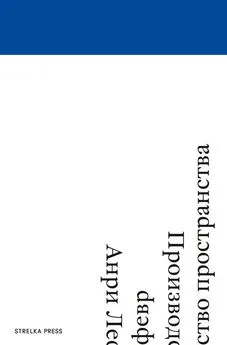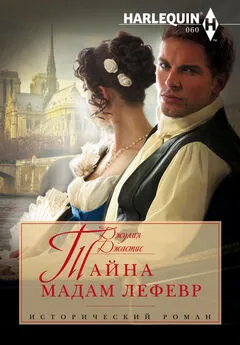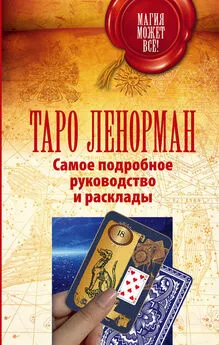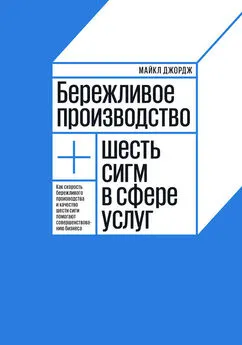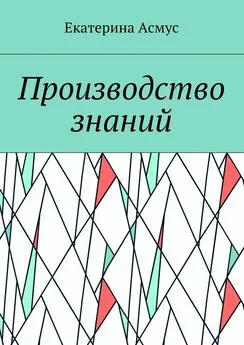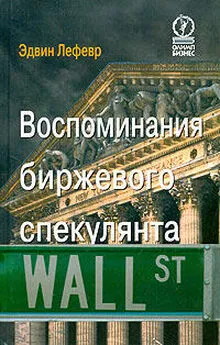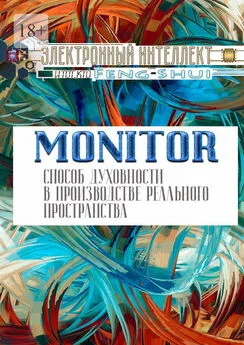Анри Лефевр - Производство пространства
- Название:Производство пространства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Стрелка пресс»f3fd0157-a4ca-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2015
- ISBN:978-5-906264-48-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анри Лефевр - Производство пространства краткое содержание
Пространство Лефевра, где ощущения, идеи, практики и физический мир соединяются в динамическом процессе постоянного возникновения и воспроизводства отношений между людьми, сообществами и институтами. Классическая работа французского философа Анри Лефевра «Производство пространства» одна из самых амбициозных попыток преодолеть извечный спор между теми, кто считает пространство абсолютной данностью физического мира, и теми, кто полагает, что оно существует лишь в сознании человека.
Производство пространства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ответ: пространство, возникающее в XII веке в разных местах Западной Европы (во Франции, Англии, Голландии, Германии и Италии), – это пространство накопления, его колыбель, его исток. Почему и каким образом? Потому что это секуляризованное пространство есть результат воскресения Логоса и Космоса, подчинивших себе «мир» и подземные силы. Вместе с Логосом и логикой заново складывается право; место обычаев и поборов, определяемых обычаем, занимают договорные (обговоренные) отношения.
Темный «мир» отступает, и страх перед ним слабеет. Но этот мир не исчезает. Он превращается в гетеротопии : локусы колдовства, безумия, дьявольских сил; локусы завораживающие, но заклятые . Позднее, гораздо позднее это будоражащее сакральное проклятие сумеют воплотить художники. Пока оно свирепствовало, никто не мог его передать; оно просто было. Пространство кишело потаенными силами, чаще пагубными, нежели добрыми. Каждая местность имела свое имя, а каждое название обозначало одну из скрытых сил: Numen-nomen . Имена (названия местностей), восходящие к эпохе земледелия и скотоводства, присутствуют и в римском мире. Благодаря тысяче мелких суеверий, связанных у римлян с землей, закрепившихся вокруг «VIllae» и соотнесенных с главными христианскими проклятиями, это изобилие сакрально-проклятого на земной поверхности не могло не сохраняться. В XII веке происходит метаморфоза, смещение, разрушение означаемых. Точнее, то, что прежде непосредственно означало запретное, теперь отсылает к означающим как таковым, лишенным их эмоционального, магического означаемого. Судя по всему, местности почти не переименовывают, однако возникает множество новых названий, которые, накладываясь на прежние, образуют на земле сеть не религиозного характера: Шато-Неф («Новый замок»), Вильфранш («Вольный город»), Эссар («Корчевье»), Буа-ле-Руа («Королевский лес») и т. п. Является ли отсылка целой совокупности слов и знаков к (лишенным смысла) означающим составным элементом великих переворотов? Безусловно. Отрицать эту процедуру могут разве что отдельные фетишисты, полагающие, будто знаки – неизменная основа знания и незыблемый фундамент общества. Средневековое пространство одновременно и раскорчевывается, и расшифровывается. Социальная практика, сама того не ведая, готовит пространство для чего-то иного: расчищает его, но не опустошает. Вместе с тем высвобождается «либидо» – тройное либидо, заклейменное августиновой теологией и образующее мир: libido sciendi, dominandi, sentiendi ; любопытство, честолюбие, чувственность. Прорвавшееся либидо устремляется на приступ открывшегося перед ним пространства. В десакрализованном пространстве, духовном и материальном, интеллектуальном и чувственном, заполненном знаками телесности, идет вначале накопление знаний, а затем богатств. Его колыбель четко локализована: это не столько средневековый город, городская община, сколько торговая площадь и рынок (с их непременным дополнением – каланчой, публичным зданием).
В связи с этими локусами – торговой площадью и рынком – следует еще раз повторить: гнусность денег и пагубный характер товара проявляются в более позднее время. В эпоху, о которой идет речь, меновая «вещь», предмет, произведенный на продажу, еще редок и несет освободительную функцию. Он десакрализует. Он возмущает дух благочестия (рупором которого был Бернар, «мечта века», основатель своего рода цистерцианского государства, апологет бедности, аскетизма и презрения к миру, а также верховенства Церкви).
Нарождающиеся деньги и товар несли с собой как определенную «культуру», так и определенное пространство. Своеобразие торговой площади, задавленной величием религиозно-политических зданий, еще мало изучено. Напомним: в Античности торговля и торговцы считались чужаками для города и политического устройства, отодвигались на периферию. Основой богатства оставалась собственность на землю. Революция Средних веков впускает торговлю в город и размещает ее в центре преобразованного городского пространства. Рыночная площадь отличается и от агоры, и от форума; она открыта для всех и выходит на все четыре стороны, на всю окружающую территорию (над которой господствует и которую эксплуатирует город) с сетью путей и дорог. Гениальное изобретение – крытый рынок, отличный и от портика, и от базилики, – собирает все сделки под одну крышу и позволяет власти держать их под контролем. Кафедральный собор находится неподалеку, но символику знания и власти несет уже не его колокольня, но каланча: она господствует над пространством и даже над временем, поскольку вскоре на ней появляются часы.
Историки, сомневающиеся в революционном характере этой эпохи, тем не менее показали, что процесс шел неравномерно. Приморские (средиземноморские) города, а также старинные поселения на юге Франции и текстильные центры Фландрии легко добились муниципальных свобод. Напротив, на севере Франции городские концессии, франшизы, хартии и уложения только силой удалось вырвать у епископов и сеньоров. Эта неравномерность (неравномерное насилие, переменный успех) лишь яснее подчеркивает скорость распространения, разрастания нового пространства. В XIV веке это пространство получило наконец понимание и признание, то есть собственную репрезентацию, и вызвало к жизни города-символы, заложенные специально для торговли в регионах, еще исключительно земледельческих и скотоводческих, то есть не торговых. «Бастиды» Юго-Западной Франции – торговые пространства в чистом виде, эгалитарные, абстрактные, изначально сонные отдельные поселения, носящие пышные имена: Гренада, Барселона, Флоренция, Кельн, Брюгге, – всего лишь позднейшие производные от великого переворота XII века. Тем не менее они представляют собой «идеальный тип» торгового города, его репрезентацию (как, например, Монтобан) с различными следствиями и вариациями: отличаются, в частности, светским характером, политическим и гражданским устройством, позже – принятием протестантизма и якобинства и т. д.
Пространство, складывающееся насильственными и ненасильственными способами в эпоху Средневековья, есть пространство обменов и коммуникаций, то есть сетей. Каких сетей? Прежде всего наземных путей – торговых и путей паломников и крестоносцев. Сохраняется схема дорог Римской империи, а зачастую и сами дороги в материальном виде. Создается и новая, специфическая сеть водных путей. Порты и приморские города по-прежнему играют важную роль; более того, их роль возрастает, хотя «талассократия» берет верх далеко не везде, а центр тяжести постепенно смещается от средиземноморских портов к портам Северного моря и Атлантики. Водную сеть, действующую совместно с дорожной, образуют реки и (позднее) каналы. Значение речного флота и речного судоходства хорошо известно. Оно обеспечивает связь между сложившимися или только возникающими (в Италии, Франции, Фландрии, Германии) локальными, региональными, и национальными рынками. Эта сеть – материальный двойник, природное зеркало абстрактной, договорной сети, связывающей участников товарного и денежного обмена.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: