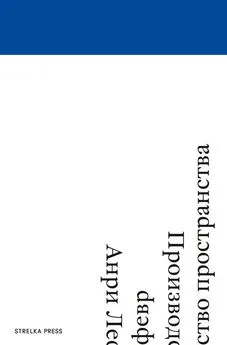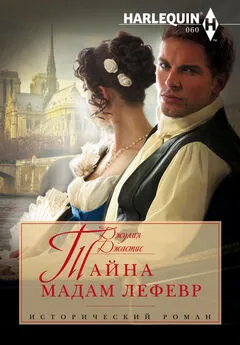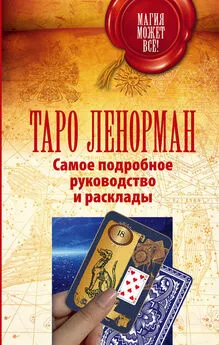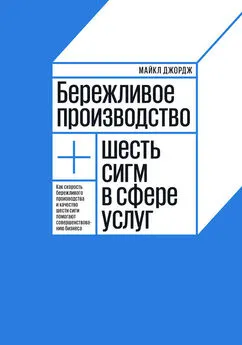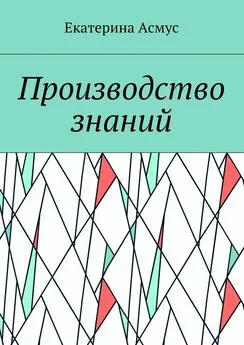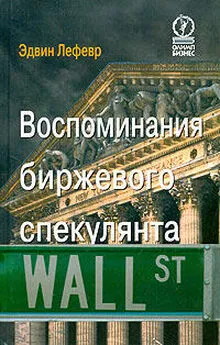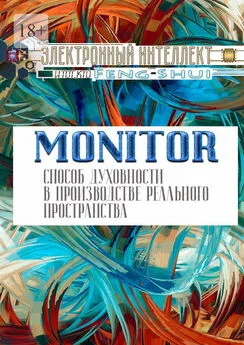Анри Лефевр - Производство пространства
- Название:Производство пространства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Стрелка пресс»f3fd0157-a4ca-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2015
- ISBN:978-5-906264-48-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анри Лефевр - Производство пространства краткое содержание
Пространство Лефевра, где ощущения, идеи, практики и физический мир соединяются в динамическом процессе постоянного возникновения и воспроизводства отношений между людьми, сообществами и институтами. Классическая работа французского философа Анри Лефевра «Производство пространства» одна из самых амбициозных попыток преодолеть извечный спор между теми, кто считает пространство абсолютной данностью физического мира, и теми, кто полагает, что оно существует лишь в сознании человека.
Производство пространства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Римский мир будет двигаться к концу (весьма неблизкому: он не наступил еще и в ХХ веке). Принцип частной собственности, высвобожденный им, оказался плодотворным: он породил пространство. Вековое молчание государства трактуется в официальной истории и у многих историков как небытие, отсутствие исторического существования. Какое заблуждение! На галло-римском Западе сохранятся все самые ценные достижения Рима: искусство зодчества, искусство ирригации и строительства плотин, дорожная сеть, усовершенствованные приемы земледелия (в развитие которого внесли свой вклад и галлы) и, наконец, главное – право (частной) собственности. «Право» это заслуживает обвинения во всех грехах не более, чем деньги или товар. В нем «самом по себе» нет ничего дурного. Принцип собственности, доминируя в пространстве (буквально: подчиняя его доминии), означал отказ от созерцательного отношения к природе, космосу и миру, указывать путь к деятельному господству, к преобразованию, а не толкованию. Быть может, он вел общество, подчиненное его господству, в тупик? Возможно – если брать его в отрыве от всего и возводить в абсолют. Значит, появление варваров пошло на пользу; варвары, совершив насилие над священной собственностью, оплодотворили ее. К тому же их нужно было принять, предоставить им возможность устроиться, оценить VIllae , заставить трудиться галло-римских колонов, подчинив их главам сельских общин, превратившимся в господ. Что касается пространства, то варвары, так сказать, освежили его, вернувшись к более древней системе вех скотоводческо-земледельческого периода (скорее скотоводческого, чем земледельческого).
Иными словами, в эпоху поздней империи и раннего Средневековья, в кажущейся пустоте, на месте абсолютного пространства утверждается пространство новое; оно секуляризирует религиозно-политическое пространство Рима. Возникают предпосылки – необходимое, но недостаточное условие – для его преобразования в пространство историческое, в пространство накопления. «Вилла», превратившаяся, в зависимости от обстоятельств, либо в феодальный домен, либо в деревню, надолго и прочно определяет собой локус : закрепляет на земле хозяйственную единицу и ее устройство.
IV. 8
Образ мира, доведенный до изощренного совершенства в (августиновой) теологии, просуществовал весь период заката Римской империи и Римского государства, эпоху господства латифундий и столкновения с варварами-реформаторами. Миллениум в данной перспективе – наиболее плодотворный момент. За внешней пустотой намечаются перемены. Современники охвачены тревогой и страхом, ибо видят одно лишь прошлое. Но пространство уже перестало быть прежним; оно – уже колыбель, место зарождения грядущих преобразований.
Христианство в любых его институциональных разновидностях почитает могилы. Сакральные, отмеченные божественной печатью места – Рим, Иерусалим, Сантьяго-де-Компостела, – суть гробницы: гробница Христа, св. Петра или св. Иакова. Толпы людей совершают долгие паломничества к ракам, реликвиям, предметам, освященным смертью. Это царство «мира». Христианская религия, если можно так выразиться, кодирует смерть, превращает ее в ритуал, церемонию, торжество. Монахи в монастырях созерцают только смерть и не могут созерцать ничего иного, ибо умирают для «мира» и тем самым придают «миру» завершенность. Религия, по сути своей криптическая , сосредоточена вокруг подземных локусов – крипт церквей. В крипте, расположенной под каждой церковью, под каждым монастырем, покоятся кости или частицы костей сакрального мифического или исторического персонажа. Говоря «исторического», мы имеем в виду мучеников, тех, кто свидетельствовал ценой собственной жизни и продолжает свидетельствовать из глубин катакомб, из «бездны», не имеющей уже ничего общего с античным царством теней. Присутствие святого стягивает в крипту все силы жизни и смерти, рассеянные в «мире»; абсолютное пространство отождествляется с пространством подземным. Под знаком этой мрачной религии проходят последние дни Рима, Города и Государства. Она соответствует аграрному обществу с невысокой производительностью, в котором земледелие приходит в упадок повсюду, кроме окрестностей монастырей, которое живет под постоянной угрозой голода и где всякое плодородие отнесено на счет тайных сил. В этих условиях происходит слияние Матери-Земли, жестокого Бога Отца и благодетельного посредника. Крипты и гробницы содержат знаки и изображения святых. Скульптуры очень редки (похоже, их нет совсем), только росписи. Они примечательны тем, что их никто не видит – разве что духовные лица, изредка (на праздник данного святого) заходящие в крипту с зажженными свечами. И тогда наступает сильный момент: изображения оживают, являются мертвецы. Эта криптическая роспись ни в коей мере не визуальна. Для тех, кто мыслит в позднейших категориях, проецируя их в прошлое, ее наличие является неразрешимой проблемой. Как живопись может оставаться невидимой? обреченной на вечную ночь? Для чего нужны фрески пещеры Ласко или аббатства Сен-Савен? Эти картины созданы не затем, чтобы на них смотрели, но чтобы «быть» и чтобы все знали: они – здесь, средоточие подземных добродетелей, знаки смерти, следы борьбы со смертью, обращающей ее силы против нее самой.
Церковь. Величайшая ограниченность, величайшее заблуждение – представлять ее себе как некую организацию с «престолом» в Риме, расположившуюся при посредстве духовенства в сельских и городских «церквях», обителях и монастырях, базиликах и пр.! Церковь обитает в «мире», в фиктивно-реальном пространстве тьмы, и завладевает им. Подземный мир прорывается повсюду, в каждом «престоле» – от ничтожного сельского кюре до папы; он пробивает земную поверхность, и «мир» выходит наружу. «Мир» воинствующей религии, страждущей и сражающейся Церкви, залегает и ворочается под землей. В XII веке пространство христианского мира занимает могучая личность Бернара Клервоского. Влияние гения, командовавшего двумя королями и заявившего папе: «Папа не ты, а я», возможно только в рамках этого магически-мистического, фиктивно-реального единства. Как только намечалось нечто иное, Бернар Клервоский придавал новую ценность пространству, отмеченному знаками смерти, созерцательному отчаянию, аскетизму. Он собирал вокруг себя толпы, и не только толпы. Его нищенское ложе служило символом его пространства.
Что происходит в XII веке? По единодушному мнению историков, история наконец возобновляет свой ход после долгого перерыва. Именно тогда, и только тогда возникают «факторы», подготовившие Новое время! Какой «саспенс»! Долготерпение Истории находит соответствие в терпении историков: они бьются в предрассветной мгле, понемногу распутывая сплетение если не причин и следствий, то фактов. Историки эти весьма осмотрительны [119]: они не уверены, что мощные преобразовательные процессы XII века следует называть революцией. Их сдержанность объясняется тем, что в противном случае им придется изучать крестьянскую революцию – «восстание сервов», – направленную против рабского положения, и одновременно городскую революцию, повсеместно изменившую статус общества. Кто воспользуется ее плодами? Безусловно, король и королевская власть, а также государство (поначалу военно-феодальное). Однако тенденции, намеченные в XII веке, получат воплощение не сразу. Какое стечение случайностей и детерминант обусловило появление таких исключительных деятелей, как Бернар Клервоский, Сугерий, Абеляр? Как проследить задним числом рождение нового в ту эпоху, когда не видно места этого рождения, его «колыбели»? Бесспорно, вновь возросло значение городов. Но что ввели, что произвели города? Новое пространство. Позволяет ли такой ответ избежать методологических и теоретических затруднений, вытекающих из анализа одного лишь времени (исторического или считающегося таковым)? Возможно. Подъем средневековых городов следует рассматривать во всех его предпосылках и последствиях. Он предполагает наличие излишков в деревнях, позволяющих кормить городское население; кроме того, город организуется как рынок, а ремесленники обрабатывают материалы сельскохозяйственного происхождения (шерсть, кожу). Что влечет за собой возникновение корпоративных объединений общинного типа внутри городской коммуны. Члены подобных корпораций не имеют ничего общего с «пролетариями», и все же объединения выводят на историческую сцену коллективного рабочего, способного к «социальному» производству – производству для общества, то есть для города.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: